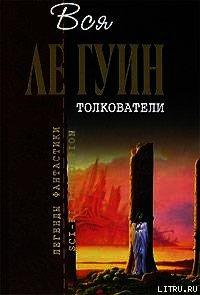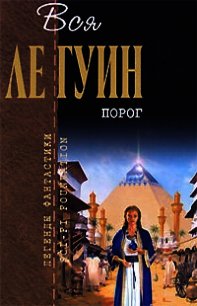Рыбак из Внутриморья (сборник) - Ле Гуин Урсула Кребер (чтение книг .TXT) 📗
Он запретил себе по ночам заниматься физикой — пять ночей из десяти он спал. Он добровольно вызвался работать в институтской комиссии по управлению хозяйством и бытом. Стал ходить на собрания Федерации физиков, на заседания Студенческого Синдиката и на тренировки группы биоментального развития. В столовой он заставлял себя садиться вместе с другими за большой стол, а не пристраиваться за маленький отдельный столик, раскрыв перед собой книгу.
Удивительно, но оказалось, что люди вроде бы его ждали! Они сразу приняли его в свою среду, стали приглашать к себе — просто поговорить и на шумные студенческие вечеринки. Они брали его с собой на прогулки и пикники, и через три декады он узнал об Аббенае больше, чем за весь минувший год. Он стал ходить вместе со всеми на спортплощадки, в мастерские, в купальни, на фестивали, в музеи, в театры, на концерты...
Ах эта музыка! Она стала для него откровением, радостным потрясением.
Раньше он никогда не ходил на музыкальные вечера, отчасти потому, что по-детски думал, что музыку можно только исполнять самому, но не просто слушать. Раньше он никогда не задумывался, насколько она способна воздействовать на человека. В детстве он всегда участвовал в хоре или играл на каком-нибудь инструменте в школьном ансамбле; ему это очень нравилось, однако таланта особого у него не было. И это, собственно, было все, что он знал о музыке.
В учебных центрах учили всему, что может пригодиться в практической жизни; к искусству тоже относились с этих позиций: учили петь, преподавали основы метрики, ритмики, танца, учили пользоваться кистью и резцом, ножом и гончарным кругом и так далее. Все это было весьма прагматично: дети учились видеть, говорить, слушать, двигаться, держать в руках инструменты. Никаких различий между искусствами и ремеслами как бы не было; искусство просто не считалось чем-то занимающим в жизни особое место, а воспринималось как один из основных технических способов общения, вроде речи. Так архитектура одонийцев довольно рано и вполне независимо приобрела определенный и весьма устойчивый стиль — очень простой, обладающий чистыми свободными пропорциями. Живопись и скульптура широко применялись, но исключительно как декоративные элементы архитектуры и градостроительства. Что же касается словесности и поэзии то они имели явную тенденцию к недолговечности и связаны были чаще всего с песней и танцем — в некоем синкретическом искусстве. И только театр развивался совершенно самостоятельно, только он один назывался «искусством» — считаясь достаточно сложным по своей структуре и функциям. Существовало множество стационарных и разъездных трупп актеров и танцоров; составлялись репертуарные компании, очень часто в них входили и драматурги. Существовал также театр мимики и жеста. Появлению артистов всегда радовались, как радовались дождям — особенно в изолированных друг от друга, разбросанных по каменистой пустыне городках. Выступления артистов были самым радостным событием года. Выросшая из чувства оторванности от своих древних корней и одйЪвременно из необычайной сплоченности жителей Анарреса, воплотившая в себе то и другое, драма здесь достигла необычайного развития и силы воздействия.
Шевек, однако, не был слишком восприимчив к драме. Его очаровывало порой искусство монологов, но сама идея актерства, «притворства» была ему чужда. И только на втором году своего пребывания в Аббенае он наконец нашел «свое» искусство — сотканное из Времени. Кто-то взял его с собой на концерт в Синдикат музыки. На следующий вечер он снова пошел туда. И ходил на каждый концерт — вместе со своими новыми знакомыми или без них, как получалось. Музыка оказалась куда более сильной потребностью, чем общение с приятелями, и приносила более глубокое удовлетворение.
Попытки Шевека вырваться из своего затворничества потерпели крах, и он это понимал. У него так и не появилось ни одного близкого друга. Он нравился девушкам, они охотно шли на близость с ним, но это не приносило ему должной радости. Это было обыкновенное удовлетворение потребности — так пищей утоляют голод. И после подобных сексуальных игр ему всегда бывало стыдно: ведь он включал другого человека в этот процесс чисто механически, точно неодушевленный предмет. Лучше уж заниматься мастурбацией, решил он. Он считал одиночество своей судьбой; ему казалось, что он пойман в ловушку собственной наследственности. Это ведь его мать, Рулаг, сказала тогда: «На первом месте у меня всегда была работа». Сказала спокойно, уверенно, подтверждая непреложность данного факта и свою неспособность что-либо изменить, вырваться из холодной ячейки одиночества. Точно так же было и с ним. Сердце его рвалось к людям, к тем, веселым и юным, кто называли его братом, но между ними словно стояла стена. Он родился, чтобы быть одиноким, — проклятый, холодный интеллектуал! Эгоист!
Да, на первом месте у него была работа, вот только удовлетворения она не приносила. Как и секс. Она должна была быть радостью, удовольствием, но увы! Шевек упорно продолжал грызть те же «крепкие орешки» квантовой теории, но ни на шаг не приближался к решению, например, «темпорального парадокса», не говоря уж о создании собственной теории Одновременности, которая, как ему казалось в прошлом году, была у него практически в руках. Теперь он просто диву давался своей тогдашней самоуверенности. Неужели год назад он действительно считал себя, двадцатилетнего мальчишку, способным создать теорию, которая потрясет основы релятивистской космологии? Должно быть, еще до того как свалиться в жару с воспалением легких, он заболел куда более серьезно: от излишней самуверенности у него помутился рассудок! Шевек записался на два семинара по философии математики, убеждая себя, что эти занятия ему необходимы, и отказываясь признать, что мог бы сам вести любой из этих курсов не хуже тех преподавателей, у которых пытался чему-то научиться. Сабула он старался избегать.
В стремлении переделать свою жизнь к лучшему он предпринял попытку поближе сойтись с Граваб. Она охотно шла навстречу его желаниям, но у нее уже не хватало сил; особенно тяжело ей приходилось зимой, когда она без конца болела. И все же, слабая, глухая и старая, она начала весной успешно читать курс лекций, но, к сожалению, хватило ее ненадолго. От усталости она становилась очень рассеянной и порой с трудом узнавала Шевека, но когда узнавала, то непременно тащила его к себе домой, и они целый вечер оживленно беседовали. В теории он видел уже значительно дальше Граваб, и постепенно ему стали надоедать эти чересчур долгие беседы об одном и том же. Либо нужно было продолжать часами толочь воду в ступе — ведь теоретические посылки Граваб он не только хорошо знал, но и отчасти уже опроверг, — либо следовало, причинив старухе страдание, попытаться объяснить ей, в чем она всю жизнь заблуждалась. И то, и другое было за пределами его возможностей — ему ведь было всего двадцать! И он в конце концов стал избегать и Граваб, всегда испытывая при этом жестокие угрызения совести.
Больше в Институте не было никого, с кем он мог бы поговорить о своей теме. Квантовой теорией поля никто по-настоящему не занимался, а уж физикой времени и подавно. Шевеку хотелось научить кого-то, собрать группу единомышленников, но пока что преподавать ему не разрешали и аудиторию для подобных занятий не предоставляли. Студенческий Синдикат отверг все его подобные требования — никому не хотелось ссориться с Сабулом.
За этот год он привык писать письма; он писал очень подробные письма Атро и другим физикам и математикам Урраса. Но лишь очень малая часть этих писем действительно была послана. Некоторые он, едва закончив, сразу же рвал на кусочки. Однажды он случайно обнаружил, что математик Лоай Ан, которому он написал целый трактат на шести страницах по вопросам реверсивности времени, умер двадцать лет назад — когда-то, читая «Геометрию времени» Ана, Шевек не стал тратить время на биографическую справку. Некоторые письма, которые он пытался отправить сам с грузовиками, прилетавшими с Урраса, не пропускали служащие Космопорта, который находился под непосредственным контролем со стороны Координационного Совета. Многие из служащих Космопорта обязаны были знать йотик. Эти «особые» знания и весьма ответственное положение явно сказывались на них, и менталитет их приобретал все более явную бюрократическую направленность; слово «нет» они произносили почти машинально, а письма, адресованные математикам и написанные с помощью математических символов и уравнений, воспринимали как шифровки, и совершенно невозможно было убедить их, что это вовсе не так. Письма физикам проходили легче, особенно если Сабул, постоянный консультант Совета, давал «добро». Но он никогда не пропускал те письма, которые связаны были с проблемами, выходившими за пределы его собственных познаний. «Это вне моей компетенции!» — ворчал он, отпихивая такое письмо в сторону. Шевек все равно не оставлял попыток передавать письма служителям Космопорта, и они неизменно возвращались к нему с пометкой: «К вывозу не допущено».