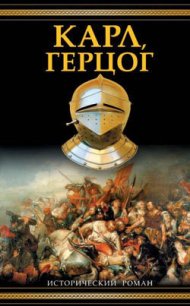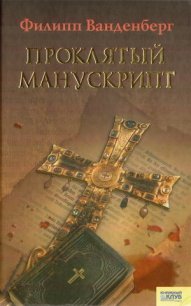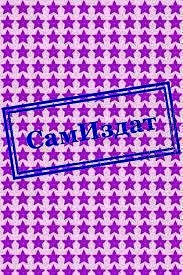Карл, герцог - Зорич Александр (читать книги онлайн бесплатно регистрация .txt) 📗
Высшая доблесть поэта – трубить ни о чем, пустословить, но делать это так, чтобы на авансцене рисовалось нечто возвышенное. Чтобы даже Марьиванна, не отрывая зада от своего места на балконе третьего яруса, могла разглядеть ангелов и лестницу на небеса в свой театральный бинокль.
Высшая доблесть чиновника – даже о возвышенном писать так, чтобы его не упрекнули в пустословии. В этом отношении эталонен, наверное, отчет прокуратора Иудеи за 33 календарный год от Р.Х. Две этих доблести – два модуса письма. Они, словно норд и зюйд, делают географию буквенного мира описуемой. Франческо, пребывая на чужбине, повествовал своей любимой о любви к ней и к любимому городу, это очень замечательно, рафинированно прекрасно. Но Франческо – и поэт, и чиновник. Писать прозу, будучи чиновником и поэтом – как править квадригой [34] тянитолкаев. Пиши же, доблестный Франческо, и пусть пот градом стучит по бумаге.
Тело под действием пара. «Что это ты такое пишешь, миленький?» – интересуется Лютеция со всей представимой в походной канцелярии обольстительностью. Заворачивает прядь-ужика за ушко, напоказ чистит перышки. Франческо неохотно отрывается от работы, поднимает на нее близорукие глаза, растирает пот по лицу и рассеяно сообщает: «Не твоего ума дело, милашка». Сообщает, впрочем, совершенно беззлобно. Франсуаза, чьим ушам тоже перепало учтивого хамства, глазами плюнув в затылок Франческо, устремляет сердце к иному обращению и отступает – простодушная, добросовестная и полнозапястная. Презирая Франческо, она уходит прочь, фривольно пританцовывая. Она направляется к Никколо и Бартоломео. У них, по крайней мере, алкоголь, доисторические анекдоты и игральные кости. Это ближе к делу. Между прочим, она честно отрабатывает свои денежки. Заплатили – работай!
Но увы, увы, Никколо и Бартоломео показательно игнорируют подкравшуюся Франсуазу. Что ж ей теперь – сесть задницей на эти крапленые кубики, чтобы привлечь к себе внимание? Ну уж нет, она будет просто стоять и дожидаться, когда господа поймут, что ее рабочий день подходит к середине, а когда он подойдет к концу, она сейчас же развернется, топнет ногой, потом хлопнет дверью – и отправится в оплачиваемый отпуск. Но подлость судьбы в том, что ждать этого «развернется» придется до первой зорьки. Франсуаза скрестила руки на груди и превратилась в статую.
Оскорбленная Лютеция также оставила Франческо в покое, села на лавку и горестно подперла голову ладонями. Ее желания просты, но противоречивы. Ей тоже очень хочется домой. Ей хочется отработать свои деньги, она так привыкла. Хочется писать. Хочется превратить это трехголовое флорентийское братство в хрустальное яйцо и размозжить его, затолкав в пасть к Щелкунчику. В самом деле, эти итальяшки какие-то недоделанные – один пишет, двое с костями вафлят бутылку, а тем временем девушки-розы, девушки-лютики томятся и млеют, девушки вздрагивают (даром что никто не замечает) в ожидании дела, в ожидании тела, струят млеко и соки нектарные с розовых ножек. И стебельков.
Все так скучно и плохо, что даже непонятно, что имели в виду, когда придумывали слово «разврат» и вводили соответствующие индульгенции.
Как вдруг: Франческо темпераментно откладывает перо (заметим – не отшвыривает, кладет или мечет). Перо нехотя перекатывается. Далее: изгоняет из своего поля зрения написанное, встает из-за стола, приобнимает скорбящую Лютецию за плечи и голосом, в котором кротость елея сочетается с фельдфебельской хрипотцой, командует: «А ну-ка, милашка, живо в постелю!» «О-у», – жертвенно кивает Лютеция, ничего себе перепады давления, может взорваться манометр, и семенит туда, туда, подальше от бочек, исходящих испариной, бочек таких страшных, словно бочкарем был Неназываемый, словно рогатый банщик наполнил их смолой и серой, а не водой, словно это не бочки, а тренажеры, чтобы упражняться в визитах туда (палец указывает вниз, но не в смысле «нельзя помиловать», а под землю, в ад, в геенну). О Боже! Это в последний раз! – сквозняк из Хельхейма [35] разметал волосы на голове у Лютеции, и она клянется, она, честное слово, клянется, опускаясь на ложе с балдахином.
Лютеция уже сбросила платье на бретельках, она уже успела щелчком удалить с предплечья ипохондрического таракана и взбить подушку. А Франческо все еще плетется. Кальсоны с бульбами на коленях, бицепсы, не тронутые анаболиками, на груди пятно курчавой шерсти – издалека кажется, что это грязь. Нет, в натуре, девочки, этот писарь дослужился бы до старшего матроса на корабле дураков! Он ни за что не снимет кальсон, пока не залезет под одеяло – они такие, эти итальяшки. И Лютеция побилась об заклад, сама с собой – снимет или нет?
Но Франческо тоже можно понять. Он и не думал возлечь на ложе продажном, дышащем прохладой и мелиссой, белеющем снежной горой в царстве пара, предбаннике преисподней, он – нет, он – ничуть, он не из тех, он не ложится со шлюхами и уж подавно не снимает перед ними ни кальсон, ни шляпы. Пусть вольная Флоренция от моря и до моря облобызает своего стыдливого сына. Он заслужил, он останется непричастен.
Лютеция, которая до всего этого еще не додумалась, в порядке инициативы кладет на живот Франческо ручку. «Не тронь, блудилище», – Франческо мягко, но решительно снимает ее руку. Лютеция не находит в этом ничего обидного. В ветхозаветном «блудилище» ей слышится что-то значительное, историческое. «Вот так и лежи, не мешай!» – с ловкостью медбрата он накрывает Лютецию одеялом и, пригрозив ей кулаком, возвращается к своим бургундским запискам. «Не иначе как самому королю пишет», – догадалась Лютеция в оправдание Франческо. Его женский кулак, его решимость, его податливая строгость ей импонировали. Она перевернулась на живот, чтобы все видеть. Она так и лежит, не смея ослушаться. «Он занят. Пишет королю и поэтому не может пока лечь», – утешает себя Лютеция. Какому еще королю? – впору спросить.
Бартоломео и Никколо, плоть от плоти флорентийской, стучали костями в обществе Франсуазы, осененные ею словно духом Франции, о нет, не бывать Бургундии французской, словно духом Бургундии, словно душицей, мелиссой постельной, женщиной в цвету, музой игры, уст не отверзающей, молчаливой, красногубой, честные денежки. Она устала быть статуей, корой, кареатидой. Она пританцовывает на месте, хотя музыки не слыхать, Франсуаза танцует, она гарцует, словно лошадка, застоявшаяся у коновязи.
«Понимаете ли, девушка, – виновато объясняет Николя, но та, разумеется, не понимает по-итальянски все эти tutto-rogazzi, – мы чувствуем, вам с нами скучно, но видите ли…» – Никколо с понятной досадой опускает глаза туда, куда уводит минетчицу пижонская дорожка, ах, ну да. Франсуаза аплодирует ресницами – от нее ускользают детали, но то, что об этом продолговатом предмете вообще зашел разговор – это она поняла и обрадовалась. Это уже прогресс, это шаг вперед, это без двух минут смена дискурса. А вдруг этот итальянский компот – прелюдия к долгожданному трам-пам-пам? Может быть, он сейчас заискивает: «Милашка, о роза, о красотка, не сердись, мы тебя уже почти хотим, а через минуту захотим по всем правилам, посмотри хоть сюда, ведь уже лучше, правда, гораздо лучше?»
Может и лучше. В смысле, может, у трупов и хуже. Но скажите, почему эти кретины невозмутимы как два комода, почему они говорят тарабарщину и пьют вино, вместо того чтобы делать то, за что они уже заплатили? Почему они просто сидят и глядят, как бьется ресница об ресницу, как твердеют ее соски, в то время как между ног у них – и это Франсуаза сразу с тоской отметила – между ног у них два недовольных зрителя, два пикуля, безнадежных, маринованных, сморщенных пикуля.
Франсуаза не понимает почему, ведь они оба такие молодые. Слава Богу, итальяшки тоже понимают, что это непорядок, значит, есть надежда. «Короче, подожди!» – подъелдыкивает Бартоломео. Франсуаза, которая поняла это так, что перед ней извиняются, сказала «Ничего!», но Никколо понял это «ничего» как нечто, обращенное персонально к нему – как упрек, как неоплаченный счет.