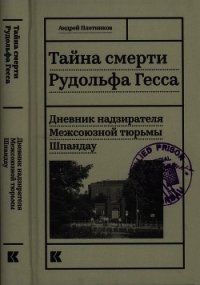Дочь похитительницы снов - Муркок Майкл Джон (читать книги без регистрации TXT) 📗
Как убить миллион своих соседей?
Для начала объявить их Иными. Они – не такие, как мы. Не люди. Просто похожи, и все. Притворяются. А копни поглубже – они все нам завидуют и люто ненавидят. Затем сравниваем соседей с нечистыми животными, обвиняем в заговоре против нас. И очень скоро общество впадет в безумие и само устроит массовую резню.
Разумеется, в таком подходе нет ничего нового, ничего оригинального. Американские пуритане всех, кто не соглашался с ними, объявили безбожниками и злодеями, причастными, хуже того, к ведьмовству. Эндрю Джексон развязал воображаемую войну, которую якобы выиграл, чтобы отобрать у индейцев земли, принадлежавшие им по договору с правительством. Англичане и американцы отправились в Китай спасать страну от опиума, который сами же китайцам и продавали. Турки везде называли армян чудовищами, а под шумок устраивали бойни христиан. Но для меня, воспитанного в иной традиции, подобные речи были в новинку (выступления Мартина Лютера против евреев, пожалуй, не в счет), и я никак не мог поверить, что цивилизованная нация прислушивается к этим речам.
Впрочем, напуганные народы очень легко принимают угрозу гражданской войны – и посулы человека, обещающего предотвратить ее. Гитлер предотвратил гражданскую войну потому, что она была ему не нужна. Власть досталась нацистам через голосование – и это произошло в стране, которая имела самую демократическую в мире конституцию, во многих отношениях превосходившую американскую.
Как только он пришел к власти, его противники оказались у него в руках. Это происходило на наших глазах, но мы не могли ничего изменить. Многие немцы отчаянно хотели стабильности и были готовы поддержать нацистов, суливших возрождение и процветание страны. И потом, куда легче пережить исчезновение соседа-еврея, чем пропажу своего родственника…
Таким вот образом большинство населения и примкнуло к наци – словом, делом или молчанием, которое хуже крика, примкнуло, поступившись собственной совестью, возненавидело себя и других, предпочло самосохранение самоуважению, и немецкий народ перестал существовать, превратился в рабов.
Современная диктатура заставляет людей раболепствовать как бы по своей воле. Мы учимся скрывать отвращение к собственной трусости за глянцевым фасадом напыщенных, пафосных речей, за рассуждениями о благих намерениях, за отговорками о незнании и непричастности, чувствуем себя невинными жертвами. А тех, кто отказывается подчиняться правилам выживания, попросту убивают.
Я по-прежнему оставался противником всех и всяческих войн, однако возобновил тренировки с мечом. По правде сказать, эти тренировки стали чем-то большим, нежели просто способом приятно провести время. В них я находил убежище, средство ускользнуть от окружающего мира и сохранить при себе то немногое, что у меня еще оставалось моего. Чтобы работать с Равенбрандом, требовалось особое умение: да, мой меч был прекрасно отбалансирован и я мог вращать его одной рукой, но в поединках этот клинок будто превращался в змею, становился удивительно гибким, как бы перетекая из позиции в позицию в моей руке, и, что самое главное, начинал жить своей жизнью.
Наточить лезвие на обыкновенном оселке было невозможно. Фон Аш подарил мне особый оселок, инкрустированный алмазами; им я и пользовался – достаточно редко, ибо Равенбранд практически не тупился.
Пожалуй, продолжатели Фрейда, столь усердно трудившиеся в изнемогающей от хаоса стране, нашли бы что сказать о моей привязанности к мечу, о моем нежелании расставаться с Равенбрандом. А я чувствовал, что клинок питает меня энергией, что он дает мне силу жить, несмотря на все ужасы, на все зверства нацистов.
Куда бы я ни шел, меч всегда был при мне. Местный умелец изготовил для меня ружейный футляр, в котором я и носил Равенбранд; со стороны я, могу предположить, выглядел этаким добропорядочным бюргером, собравшимся на охоту или даже на рыбалку.
Что бы ни случилось с Беком, я для себя решил, что мы с мечом не должны погибнуть. Не знаю, было ли у меча какое-либо.., э.., символическое значение, олицетворял ли он собой что-нибудь; мне известно лишь, что наша семья владела им добрую тысячу лет, что, по преданию, этот меч выковали для Вотана, что именно он обратил в бегство сарацин при Ронсевале и повел в атаку конницу Каролингов, что он сражался с берберами, защищал короля при Гастингсе и служил саксам в Византии и на Востоке.
Порой мне казалось, что я схожу с ума, однако ощущение неразрывной связи между мечом и мною с каждым днем становилось все крепче. И дело тут было не в приверженности традициям и не в чрезмерном увлечении рыцарскими романами.
Между тем жизнь в Германии продолжала ухудшаться.
Даже городок Бек, с его старинными островерхими черепичными крышами, над которыми торчали печные трубы, с его сонными фасадами и зелеными окнами, с его еженедельными ярмарками и древними обычаями, не избежал тлетворного поветрия.
Еще до 1933 года по улицам Бека время от времени маршировали самозванные штурмовики – бывшие солдаты, оставшиеся без работы; командовали ими такие же самозванцы, присвоившие себе звания от капитана и выше. Квартировали они не в Беке, откуда я их, попросту говоря, выгнал, а в соседнем городе. Парады проходили с большой помпой: во-первых, внушали страх противникам, коих в Беке насчитывалось не то чтобы мало, а во-вторых, показывали свою силу старикам, женщинам и детям.
Такие вот самозванные армии были чуть ли не в каждом немецком городе; они постоянно враждовали между собой, дрались с коммунистами, нападали на политиков, пытавшихся ограничить их влияние (эти политики понимали, что если штурмовиков не остановить, гражданская война станет печальной реальностью). Именно это и вызвались проделать нацисты – обуздать отряды, которые они же сами и создавали, пугая обывателей и добивая бедную, униженную Германию.
Я согласен с мнением, что если бы союзники проявили больше благородства и не пытались отобрать у нас последние гроши, Гитлеру и штурмовикам не на кого было бы пенять. Однако в условиях явной, неприкрытой несправедливости даже самые тихие и робкие из бюргеров одобряли действия, которые до войны сочли бы заслуживающими самого строгого осуждения.
И в 1933 году, опасаясь конфликта «в русском стиле», многие из нас проголосовали за «сильную руку» – в надежде на лучшую, более стабильную, более спокойную жизнь.
К сожалению, «сильная рука» Гитлера, как это обычно и бывает, оказалась политической фикцией; приспешники называли его железным человеком, а на деле он был ничуть не лучше всей этой компании крикливых психопатов.
По улицам Германии в те годы бродили тысячи гитлеров – тысячи обездоленных, обделенных жизнью невротиков, преисполненных зависти и ненависти. Гитлер выбился из общего ряда благодаря своему упорству: он обладал талантом произносить трескучие политические речи и, упиваясь собственным красноречием, заводил толпу; кроме того, он нашел беспроигрышный ход – из его речей следовало, что мы страдаем не из-за алчности наших предводителей или жестокости победителей, а по вине загадочной, почти сверхъестественной силы, которую он именовал «мировым еврейством».
В обычные времена к подобному бреду прислушивались бы разве что всякие отбросы общества, но в пору, когда один финансовый кризис сменял другой, Гитлер и его присные убеждали все больше немцев (и среди прочих – крупных промышленников), что национал-социалисты единственные предлагают надежный путь к спасению.
Возьмем Италию и дуче Муссолини. Он спас свой народ, возродил его, заставил соседей снова опасаться итальянцев. Он вернул Италии мужество. То есть сотворил именно то, что требовалось совершить в Германии. Так они думали, эти люди. «Сапоги и пушки, корабли и флаги, и границы рвутся как листы бумаги…» – писал Уэлдрейк в своих яростных стихах, незадолго до гибели в 1927 году.
Простые стремления. Простые ответы. Прописные истины.
Над интеллектом, образованием и порядочностью потешались так, будто они стали заклятыми врагами Германии. Мужчины, как всегда, утверждали свое уязвленное достоинство тем, что требовали от женщин оставаться дома и воспитывать детей. На словах они почитали женщин как земных богинь, а на деле относились к ним с презрительным высокомерием и не подпускали к реальной власти.