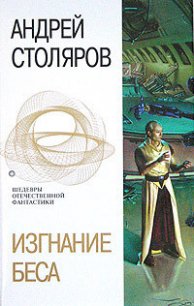Монахи под луной - Столяров Андрей Михайлович (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
8. ВЕЧЕР И ЗАКАТ
Ситуация была такова. К девятнадцати часам демоны захватили обширные участки в Горсти и, взорвав канализацию на Карьерах, перерезали единственную дорогу, ведущую из города. Зашипели настилы, разъедаемые нечистотами. Смог кислот и миазмов поднялся туманной стеной. Почернели накренившиеся заборы. Демонов были десятки. Левое крыло их распространялось по Огородам, — предлагая населению колготки и стиральный порошок. Разумеется, по государственным ценам. Недовольство, таким образом, было подавлено. Основная же масса, выламываясь и беснуясь, хлынула по Кривому бульвару прямо на горком, — распаковывая гирлянды сосисок, потрясая в неистовстве фирмовыми джинсами. Милицейские патрули, забросанные колбасой, отступали, сгибаясь под тяжестью неожиданного дефицита. Противопоставить им было нечего. Склады госторга были печально пусты. Рота солдат, поднятая по тревоге, встретила на углу Таракановской заграждения в виде ящиков с бутылками водки. Причем, многие уже были откупорены. Контрудар, естественно, захлебнулся. Затрещали разорванные подворотнички. Автоматы полетели в дремучую пыль. Началось братание и казацкие пляски. К двадцати ноль-ноль демоны блокировали вокзал. Телефонные станции также вышли из строя. Линии были перегружены анекдотами. Синий липнущий мох появился на проводах. В настоящее время под контролем остается лишь самый центр города. Обстановка, по-видимому, чрезвычайная. Мы неумолимо погружаемся в хаос.
Апкиш с трудом моргнул, и тугие перламутровые веки его заскрипели.
— Полчаса назад на расширенном бюро горкома было принято решение о немедленной ликвидации. Безусловному изъятию подлежат, прежде всего, интеллигенция, иммигранты — невзирая на ранги и должности, а также все неустойчивые элементы, так или иначе дестабилизирующие Хронос. Проведение операции возлагается на «Спецтранс». Часовщик будет лично ответственен. Если к двадцати четырем часам не удастся добиться синхронизации, то Круговорот, по всей вероятности, прекратит свое существование.
Он был бледный, надушенный, невозмутимый, точно сделанный из дорогого фарфора, редкие светлые волосы его отливали стеклом, а на щеках отчетливо розовел макияжный румянец. Вероятно, он пользовался косметикой.
Идельман, просыпающий дикий пепел на брюки, немедленно закричал:
— Ну так что вы от нас хотите?!.. Чтобы мы сконструировали очередной сценарий?!.. Чтобы — рай коммунизма и чтобы — всеобщая пастораль?!.. Богосозданные правители, дни и ночи радеющие о благе народа?!.. Светоч мира?!.. Мыслители?!.. И счастливый одухотворенный народ, воздающий хвалу правителям, которые радеют о нем дни и ночи?!.. Изобилие, храмы равенства, социальная справедливость?!.. Океан гуманизма?!.. Демократия, не имеющая границ?!.. Ложь! Ложь! Ложь!.. Кирпичи ваших замыслов — изо лжи!.. Все это развалится, словно дом на песке!..
Папироса его трещала и ярко вспыхивала. Шевелились грачиные перья на голове. Даже шторы надулись от фальцетного крика. Красные зловещие тени скользили по комнате, озаряя и ломберный столик с покалеченными ногами, и продавленный старый диван, наподобие того, что я видел в милиции, и распутство немытых стаканов, и картофельную шелуху, и ведро — все в плевках, и окурки, и газету со следами подошв, и задохшийся мумией кактус, и рогожу побелки на потолке, и застывшие хмурые группки людей, которые, словно волки, страховито ощерились друг против друга. Ломти толстого сумрака отделяли их. Будто ложами. Это горел закат. И, возможно, горели цеха завода, перемалывающиеся в мутно-огненную дымину. Люстра рдела стеклом. Света в квартире не было. Пробки вывернули, потому что Апкиш боялся прослушивания. Надрывался сортир. Коридор за распахнутой дверью зиял чернотой. Было душно, накурено. Густо чиркали спички, и фигура Идельмана металась, как каракатица, вспугнутая из норы.
Чьи-то руки подхватили его и усадили обратно, пытаясь угомонить.
— Сука! Морда жидовская! — ошпарил клокочущий голос.
Тотчас же кто-то из окружения Учителя, расположившегося в углу, легким призраком переместился к окну, распластавшись в простенке и отогнув полосатую занавеску. — «Огурцы», — после некоторого молчания доложил он. — Какие еще «огурцы»? — резко спросил Учитель. — Скороспеющие, ребристые, сантиметров под восемьдесят — хвостик, зубчики, ползут один за другим… — Много? — Много. Одиннадцать или двенадцать. — А «капустники»? — также резко спросил Учитель. — Этих не наблюдается. — Где сейчас Вертухаев? — Стоит. — Место? — Место. — А он не «приклеенный»? — Не похоже, Учитель. Мне кажется: нет. Нет, Учитель, мне кажется, все в порядке. — Повернувшись, Учитель спокойно и веско сказал: — Но имейте в виду, что я буду стрелять. — Ради бога, — не менее веско ответствовал Апкиш. — И ребята мои тоже будут стрелять. — Ради бога, — сказал ему Апкиш. — Я под суд не пойду, к черту — тюрьмы и лагеря. — Ради бога, пожалуйста, — сказал ему Апкиш.
Быстрый приглушенный щелчок тут же разнесся по комнате. Точно венчая беседу. И еще несколько таких же быстрых и тревожных щелчков суматошно рассыпались — как смертельный горох. Что-то переменилось — в багровости сумрака. Судя по всему, это щелкали предохранители на пистолетах. Или, быть может, обрезы. Даже скорее — обрезы. Видимо, многие здесь были вооружены. Видимо — кроме меня. И, наверное, еще кроме Гулливера. Потому что ему было это не нужно. Гулливер и оружие! Это — абсурд! Он вообще ни на что не обращал внимания. Он сидел, опираясь локтями о стол, поразительно сгорбившись и придвинув тарелку с развалами каши. Каша была очень старая, потрескавшаяся, в неприятных творожных комках, капли серого жира продавливали ее, загибалась подсохшая корочка, а по краям уже налипли волосья. Крупная куриная ножка торчала из середины. Гулливер, как безумный, откусывал мясо, пропуская волокна сквозь редкость зубов, подгребал остывшее варево ложкой, трудно сглатывал, набивая полный рот, и жевал, жевал, — чрезвычайно поспешно, роняя на стол отлепившиеся соцветья перловки. Двигалась, работая, бугристая челюсть, будто шатуны, ходили шершавые оббитые локти, плоскости лопаток вздымались под рваной футболкой. Он еще успевал прихлебывать какую-то бурду из эмалированной белой кружки с облупившимся цветком.
У меня свело желудок от голода. Я не ел со вчерашнего вечера. Дело, однако, было не в еде. Волны ненависти сгущались в пространстве, и закатное страшное облако питало их краснотой. Ненависти было слишком много. Едким потом проступала она на лицах, жутко выщипывала глаза, колом ставила в легких задержанное тугое дыхание, нагнетала биение пульса, распирала сердца и — стекая, накапливаясь — окостеневала в готовности пальцев на спусковых крючках. Мы ведь пестуем ненависть. Ненависть — наше черное имя. Каждый ненавидит всех, и все ненавидят каждого. Двести шестьдесят миллионов врагов. Скрюченные стальные когти бродят по городам. Обдирают лицо ненавидящие железные взгляды. Душный запах войны витает над миром. Хочется вцепиться в ближнего своего и калечить, калечить — до груды болезненных судорог. Растоптать. Разнести по кусочкам. Ни на что другое мы уже не годимся. Потому что для любви нужны великие силы. А для ненависти нужна только ненависть. Зомби. Холодные демоны.
Вероятно, я что-то пропустил, заглядевшись на Гулливера, потому что обстановка в комнате уже изменилась. Стало как будто светлее. Появился неслышный сквозняк. Занавеска была отдернута, и надрывные красные отблески бежали по потолку. Говорили теперь все разом. Пожилой, очень рыхлый, инфарктный растерянный человек, чем-то смахивающий на Батюту, приседал и оглядывался, прижимая ладони к груди.
— Дело, по-моему, не в демонах, — умоляюще лепетал он. — Лично я ничего против демонов не имею. Демоны так демоны. «Огурцы». Что ж тут, значит, поделаешь? Кровь людскую не пьют? Не пьют! Не насильничают? Не насильничают. Привыкнем. Ведь бывало и хуже. Много хуже бывало. Главное, чтобы не выскочило что-нибудь еще. Вот, что особенно плохо. Только привыкнешь, — опять что-то новое. Хулиганство, разболтанность. Никакой, значит, уверенности. Надо, по-моему, написать большое письмо в ЦК, обратиться лично к товарищу Прежнему. То есть, так, мол, и так, пусть назначат комиссию. Подписаться, естественно. Коммунисты, рабочие. Безобразие ведь какое: не дают спокойно трудиться…