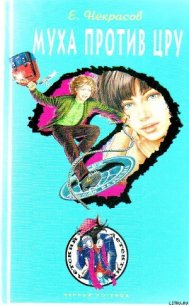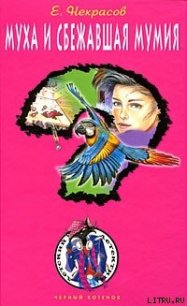Благословение пана - Дансени Эдвард (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
Глава тридцатая
БИТВА ПРОИГРАНА И ВЫИГРАНА
Августа поглядела на мужа, но это было ему ни к чему: его час пробил. Если он не удержит их теперь, они забудут о своей вере ради языческих фантазий, и викарий будет как тот пастырь, который не умеет сохранить отару в горах, где водятся волки. Его прихожане не должны сбиться с истинного пути; он спасет их.
Люди задвигались; они отвернулись от викария, ища глазами полоумного мальчишку.
Движением руки викарию удалось вновь привлечь внимание прихожан. Он удерживал их особым звучанием своего голоса, который звенел, словно эхо ликующих голосов праведников, радующихся обетованию в далеких сферах, где они напрочь забыли тяготы земного бытия или едва вспоминают о них, словно во сне. Что бы это ни было, когда бы ни приходил этот редкий восторг, священник узнавал его, и теперь он понял, что необъятный и таинственный мир мысли собрал всю мощь в помощь ему. Случилось то, что должно было случиться. Викарий напряг свои силы, он должен был выиграть битву, иначе конец, конец всем надеждам, потому что у него больше не будет сил, и, значит, враг окажется сильнее. Викарий говорил со своими прихожанами: продолжал взывать к ним.
Вновь он позволил своим мыслям отправиться в прошлое; и вновь ему удалось вырвать людей из спячки, увести их с ложного пути, потому что воспоминания еще были живы в них, и они освещали те дни, которые больше ничто не освещало. Викарий показал им, как всё, что они любили, находило свое место в долине Волдинга благодаря вере отцов. Без этого ни одна лужайка, ни одна роза на стене дома не могли бы стать такими, какими они были. Старый уклад еще можно было вернуть. Викарий умолял прихожан не забывать свою веру ради того, что было новым и злым. И умоляя их, он боялся, как бы его соседи, на которых он смотрел, словно на своих детей, не потеряли право на спасение по его вине, по слабости его доводов, по его неумению найти нужные слова. Умоляя, он оплакивал их, и они чувствовали, как печаль изливается из каждого его слова, бьется в каждой его фразе, как боится он, что по его вине они погрязнут в грехах. Не их он обвинял, а себя, если все то доброе, чему он учил их долгие годы, в одночасье перестало быть нужным. И упрекал он их не более, чем пастух упрекает своих овец. И все время возвращался мыслями к прошедшим годам, ибо вера и привычный уклад были едины для него и были как сад, сияющий в мягком свете и надежно защищенный от бед, которые теперь терзали его. Ни разу не намекнул викарий, что из прошлого пришли и обряды Пана, а не только вера отцов, как один порыв ветра несет бабочку и преследующую ее птицу. И они не обратили на это внимание, потому что их воображение не было настолько развито, чтобы дойти до истоков чего-либо (если, конечно, это вообще кому-то подвластно), и в их умах шла борьба между памятью о давнем Волдинге, каким Анрел рисовал его, о Волдинге их предков, о деревне, которая была повернута к Божьему благословению, как гора повернута к солнцу, и памятью о музыке, которую они могли слышать как раз в те минуты и которая доносилась до них с расстояния не больше десяти ярдов от входной двери. Какая память возьмет верх? Эхо необычной мелодии уже почти стихло в стропилах, тогда как другие воспоминания оживали благодаря голосу викария. Все, кто был в церкви, поддались им, потому что своим сильным голосом викарий, как смычком, водил по струнам их сердец. Паства обратилась к викарию, и он рассказал ей об истории Волдинга, словно прочитал ненаписанную хронику деревни, о которой не знала историческая наука. Ни один ученый не поведал бы так о победившем городе или о славе и просвещении какого-нибудь благородного времени, как Анрел повествовал своим прихожанам о Волдинге; ведь ему были ведомы их печали и маленькие радости так же, как большие праздники, когда вся деревня отдыхала и веселилась. Викарий пересказывал заурядные события; и каждое слово как будто сверкало, а музыка его голоса, проникая сквозь сверкание, высоко возносила старую веру, словно это было ослепительное летнее солнце. На викария были обращены все взгляды, и его слова глубоко западали в души прихожан, мешаясь с их собственными чувствами и раздумьями, которым они предавались, посиживая зимними вечерами у очага, но о которых никому не рассказывали; в последний раз призвав своих прихожан вернуться на старый путь, викарий умолк и стал вглядываться в лица. Кто-то из сидевших на скамейке тихо достал белый носовой платок, блеснувший на фоне черных воскресных одежд, потом появились еще два носовых платка. Трое юношей, закрывая лица, словно кровь потекла у них из носов, вышли из церкви. Несколько подростков тотчас последовали их примеру. В церкви началось шевеление, и еще два платка сверкнули белизной, прежде чем два молодых человека двинулись к двери. Вот и Лайли поднялась со своего места и, пройдя мимо миссис Эрлэнд, остановилась в проходе между рядами. По-юному грациозная, сияющая уверенностью в себе, она высоко подняла голову и обвела взглядом церковь. Миссис Эрлэнд сидела возле самого прохода, где стояла гордая Лайли: она протянула к девушке руку, чтобы усадить ее, но ей помешала старческая неловкость, из-за которой рука скользнула по платью Лайли и осталась ни с чем. А девушка прошествовала к двери, словно она была невестой тореадора и за ее спиной все еще вопили зрители, словно она была царицей фей, вышедшей из леса в лунную ночь за неким волшебством, найденным ее подданными, словно она была царственной жрицей, только что посвященной в тайны, которые теперь были ведомы ей одной. Если походка и высокомерный взгляд могут выразить нечто подобное, то Лайли это выразила на удивление всем, кто ее видел.
– Лайли, – шепнула миссис Эрлэнд, когда поняла, что девушка ускользает от нее, – так не уходят из церкви.
И в это мгновение мысль о мелодии позвала миссис Эрлэнд; дело было не в тех или иных звуках, а в том, что Волд вдруг позвал ее этой странной музыкой; он сиял вдалеке ярким зеленым убранством и синими тенями в золотой дымке, так что казался не столько реальным, земным, сколько волшебным, словно из сказки, которую ей рассказывали, когда она была совсем маленькой. Волд как будто требовал, чтобы она немедленно явилась к нему, оставила возле церкви своего пони и поднялась наверх, но не той тропинкой, что вела к ее дому, а той, что вела в лес и на другую сторону горы; и чтобы не шла, а весело бежала, как в юности, забыв о своих годах и обо всем остальном, кроме музыки.
Парни и девушки устремились вон из церкви, после ухода Лайли уже не прикрываясь носовыми платками.
Викарий молчал; был слышен лишь шум шагов. Он поглядел на миссис Эрлэнд, надеясь, что ее пример кого-нибудь остановит и он сможет продолжать проповедь хотя бы для немногих.
Миссис Эрлэнд аккуратно собирала свои вещи: молитвенник, псалтирь, зонтик и маленькую сумочку. Потом она громко сказала:
– Пожалуй, это было очень давно.
Никто не понял, что она имела в виду. А старая и стройная миссис Эрлэнд поднялась со своего места и, грациозно двигаясь, поспешила прочь.
Анрел продолжал проповедь. Больше он не просил, чтобы прихожане вспоминали старые сады, освещенные заходящим солнцем и утешавшие стариков в последние годы их жизни, тех стариков, что теперь покоились в мире под огромными тисами. Из проповеди в проповедь, что произносят священники с честными сердцами, но без ораторского таланта, шествуют одни и те же фразы, афоризмы, цитаты и максимы. Анрел знал, что побежден. И ему ничего не оставалось, как что-то говорить, лишь бы говорить. Вот он и произносил затертые афоризмы, гладкие фразы последним из своих прихожан, пока их каблуки стучали по проходу. Держа себя в руках, викарий не давал волю слезам, чтобы они не мешали ему произносить ничего не значащие фразы, которые когда-то были полны смысла, и не переставал говорить, пока из церкви не ушли все, все, кроме Августы. Только она и оставалась еще с ним. При таком сокрушительном поражении ее верность утешала викария.
Пора было заканчивать. Собрав воедино надоевшие фразы, викарий перешел к заключительной части, которую слушала одна Августа.