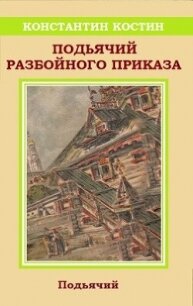Боярин Осетровский (СИ) - Костин Константин Александрович (читать книги без .txt, .fb2) 📗
Если все эти бумажки взять и отнести царю — против меня уже можно применять калечащие пытки. И если проводить их будет Никодим под контролем Полянского, который по каким-то причинам твердо уверен как в том, что где-то в Сибири и впрямь живут мамонты, так и в том, что я виноват в том, что с изменническими целями рассказал о них англичанам.
Так. Стоп. Не так. Неправильно.
Но вот что именно тут неправильно — мозг сообразить никак не мог.
— Ну так что, «боярин», — опять эти кавычки, — Викентий? Вот здесь, — перед моим лицом появилась еще одна бумажка, исписанная витиеватым почерком, — твое чистосердечное признание в том, что на англичан ты работал. Вот здесь подпишешь — и закончатся твои мучения.
Полянский кивнул на девочек, отошедших в уголок и, кажется, занявшихся игрой в куклы. Девочки синхронно посмотрели в нашу сторону и покладисто кивнули.
Меня передернуло.
Вот оно. Вот что неправильно. Глава Приказа тайных дел ведет себя так, как будто следствие по моему делу уже закончено, остался сущий пустяк — подпись от меня получить и можно на суд царю отправляться. А так не делается. СНАЧАЛА эти бумаги должны были царю попасть, потом меня к царю привести — измена среди бояр не такой частый случай, каждый из них царем предварительно рассматривается, и только ПОТОМ начинается следствие и пытки. Полянский жестко нарушает процедуру и, когда эти бумажки попадут царю…
Если. Если попадут.
Не может он к царю с моим признанием пойти, как минимум — в немилость впадет, что через голову царя действовал. Как максимум — сам в измене может быть обвинен. Что это означает?
Я поднял взгляд над бумагой:
— Что тебе от меня нужно?
— Подпись… — начал, улыбаясь, Полянский.
— Не то. Что тебе от меня на самом деле нужно?
Глава Приказа тайных дел перестал улыбаться, коротко оглянулся и, наклонившись ко мне, тихо произнес:
— Изумрудный венец, Осетровский. Отдай его мне — и будешь свободным.
Вот оно что…
Вот почему палача не поменяли — нет у Полянского других верных палачей, которых можно в свой план посвятить. И подьячего поэтому нет, и сам порядок допроса нарушен.
Весь этот компромат собран исключительно для того, чтобы выбить из меня Венец. Неизвестно, да, по сути, и неинтересно, на кого в данном случае работает Полянский — на Морозовых, на Дашковых-Телятевских, на кого-то третьего или просто на самого себя. Главное — кто бы из бояр не хотел получить Венец, он не может просто так схватить меня и пытать. Царь-батюшка, дай ему Бог, долгих лет и здоровья, недвусмысленно запретил. Зато можно обвинить меня в измене, привести сюда, выбить признание, а потом поставить перед фактом…
— Не отдашь — я бумаги царю отдам. А тогда мимо плахи с топором тебе никак не проскочить будет.
— Так я же… — прохрипел я, — Не признался…
— Скоро признаешься.
У меня фантомно зажгло в правом боку.
— Не признаюсь, — с уверенностью, которой не испытывал, заверил я его, — Продержусь долго, а там и о том, что меня не по закону схватили, царь государь узнает.
— Да кто ж ему расскажет? — расхохотался Полянский, — Вокруг сисеевского терема все моими людьми окружено, мышь не пролетит, птица не пробежит…
Тут он запнулся, видимо, осознав, что запутался в метафорах. А ты, Григорий Дорофеевич, тоже нервничаешь. По офигенно тонкому льду ходишь, как говорил Кирпич. Если я продержусь еще хотя бы сутки — царь о твоем самоуправстве и так узнает. У него везде свои люди. Царские соколы везде летают и, хотя формально они к твоему Приказу относятся — подчиняются вовсе не тебе. Если продержусь сутки…
Только не продержусь я. Не смогу. Не выдержу.
Полянский не выдержал первым.
— Ладно, — сказал он, наконец, — Раз ты такой смелый да стойкий, посмотрим, как ты запоешь, когда рядом с тобой твою се… твою подружку вздернут да начнут горящим веником парить. А то и вовсе на кобылу посадят. Сейчас за ней людей и отправлю.
Глава Приказа тайных дел резко развернулся и выскочил из пыточной.
Я сжал кулаки. А что мне еще оставалось делать?
Я лежал в своей уже привычной камере, накрывшись полой кафтана — а смысл одеваться, если скоро потащат обратно? — когда ко мне ворвался Полянский.
— Как⁈ — зарычал он, бледный, как смерть, — Как ты это сделал?
— Не делал я ничего, — ответил я, поднимаясь и чувствуя, как внутри меня медленно разжимается пружина, до этого стискивающая сердце. Потому что кроме Полянского в камере никого не было. Ни Аглашки, ни Клавы, ни Насти — никого. А это значит…
— Как ты с проклятьем договорился⁈ Десять человек погибли, с места не сойдя, десять!
Пружина лопнула с никому, кроме меня, не слышимым звоном. Сработало! Сработало!
— Голос… — тихо пробормотал я, идя к ожидающим меня конвоирам, который сейчас вывезут меня из терема. Голос промолчала, и я уже облился потом, но тут эта бестелесная стервочка все же соизволила откликнуться.
— Слушаю тебя.
— Все, кто придет сюда и станет здесь командовать или на живущих здесь нападать — не гости.
— Ну ладно, — лениво протянула она.
Как я уже говорил — на Голос никакой надежды, она своенравная и несговорчивая. Спокойно могла проигнорить мою просьбу. Но нет, умничка моя бестелесная, все сделала правильно, спасла моих девочек, молодчинка.
— Как ты с проклятьем договорился⁈ — Полянский навис надо мной как стервятник над падалью… Блин, не самое удачное сравнение…
— Да никак, — пожал я плечами, — Оно мне не подчиняется.
Не соврал, кстати, чистейшая правда.
— Мы думали, раз ты там спокойно живешь — нет больше сисеевского проклятья, снято… А оно есть!
— Ну есть. Я тут при чем?
Спасибо тебе еще раз, Голос. Обязательно какой-нибудь подарочек тебе придумаю. Правда, не знаю, какой. Что может быть нужно бестелесной девушке? Пряников она не ест, платьев-украшений не носит… А, ну да. Она узнать хочет, кто род Сисеевых уничтожил. Ну вот — в благодарность я ей это и расскажу. Вернее, кто именно уничтожил, я догадываюсь. Романовы. Осталось выяснить зачем — и можно идти, порадовать Голос…
Мою некоторую отстраненность — а вас бы током били целый час, вы бы себя как, нормально ощущали? — Полянский принял за спокойствие, отчего окончательно озверел. Схватил меня за грудки… Озадаченно посмотрел на оставшийся в его руках кафтан — я ж его не надел, только накрылся, помните? — с рычанием отбросил его в сторону и попытался ухватить меня за бороду. Ну, потому что полуголого человека больше особо и не за что схватить. Да и с бородой у него не получилось, короткая она у меня выросла, никак не ухватишь.
Полянский не выдержал, закатал мне оглушительную пощечину и заорал:
— А ну вставай, холоп!!! Сейчас будем тебя под Язвенным Словом держать, пока все бумаги не подпишешь! А как подпишешь — к царю пойду, и тогда с его повелением мы твой терем по бревнышкам раскатаем, хоть с проклятьем, хоть без! И Венец достанем, и Источник, все получим! Только ты этого с отрубленной головой уже не увидишь! А послушался бы, отдал Венец — царь ничего и не узнал бы…
— О чем не узнал бы?
Лицо Полянского стало белым как полотно. Ну, так говорят — сам я здесь никогда не видел настолько белого полотна, как то, каким стало лицо главы Приказа. Потому что вопрос ему задал не я.
Вопрос задал царь.
Царь государь, Василий Федорович, преспокойно стоял в дверях моей камеры, опираясь на посох. И ему было глубоко плевать, что он никак не мог здесь оказаться.
— Не приказывай казнить, государь! — бросился ему в ноги Полянский. Следом на коленях оказался я. Во-первых — потому что как-то некрасиво валяться на кровати, когда царь стоит перед тобой. Некрасиво, да и для жизни опасно. А во-вторых — глаза царя сверкнули, как будто в них на секунду вспыхнули две яркие лучистые звездочки, и меня как будто какая-то неведомая сила сдернула с постели.