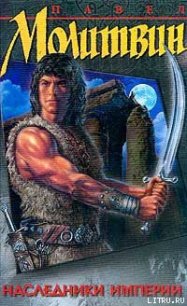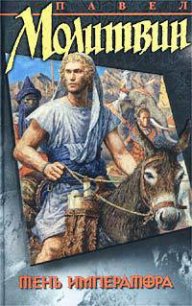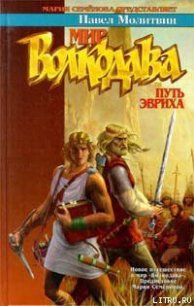Ветер удачи - Молитвин Павел Вячеславович (книги без сокращений txt) 📗
Напоив бесчувственного Таанрета целебным отваром, Уруб отправился проведать Нганью. Ильяс хотела последовать за ним, но в последний момент передумала и, присев на груду циновок — комнатка эта давно использовалась как кладовая, а гостевые покои были отданы беженцам, — обняла колени, тщетно пытаясь справиться с охватившим ее смятением.
Ни об одном чужом мужчине она не думала так много, ни об одном не тревожилась так сильно, как о Таанрете. Не было, в общем-то, ничего удивительного в том, что сердце ее покорил таинственный незнакомец — смелый, решительный, красивый, умный и, очень бы ей хотелось добавить, великодушный, но правильнее было бы сказать: не кровожадный. Странно было другое — он почему-то тоже ее запомнил, хотя виделись они всего два раза, и даже в жару сумел разыскать особняк Газахлара. Никому, кроме нее, он не пожелал доверить уход за собой, и форани не могла не признать, что это не только польстило ей, но и вселило в душу глупые, несбыточные надежды. При виде въехавшего в ворота «Мраморного логова» Таанрета ноги сами собой понесли ее ему навстречу; ей хотелось петь и смеяться, и, глядя в его дивные, сияющие как солнце глаза, она напрочь забыла, что видит перед собой предводителя насильников и убийц, которого должна люто ненавидеть и неоднократно уже клялась себе забыть, выкинуть из сердца, а буде представится возможность, так и убить.
Нет, появление его в отцовском особняке нельзя было воспринимать иначе, как ниспосланное Богами испытание. Таанрет помнил ее, доверил ей свою жизнь, но от этого не перестал быть предводителем убийц. Так зачем же она позвала к нему Уруба, вместо того чтобы перерезать горло и бежать из «Мраморного дворца» вместе со слугами и рабами? Треугольный щит с изображением поднятого кулака позволит им беспрепятственно покинуть столицу, а разыскать их в южных папиных поместьях будет очень и очень непросто. Разумеется, при этом она подставила бы под удар отца, но хитрый лис сумеет, надобно думать, разыграть сцену отречения от сумасшедшей дочери, поднявшей руку на своего гостя и благодетеля. Ей, впрочем, если уж на то пошло, вовсе не обязательно убивать желтоглазого собственноручно. Она может приказать это сделать одному из рабов, посулив ему вольную, а когда приказ будет выполнен, поспешить во дворец и, заливаясь слезами, заявить, что кто-то, желая отомстить Таанрету, проник в никем не охраняемое «Мраморное логово» и убил ее любимого, драгоценного, ненаглядного….
— Могло бы получиться очень трогательно! — пробормотала Ильяс, чутко прислушиваясь к дыханию больного. — И даже правдоподобно, поскольку, возникни у кого-нибудь мысль прикончить Таанрета, защитить его здесь было бы некому.
Вай-ваг! Как же она не догадалась потребовать, чтобы привезшие его настатиги оставили охрану? Придется отправить отцу записку и попросить, чтобы тот прислал воинов для сбережения своего незваного гостя, в конце концов, это отвечает его собственным интересам…
Проклятый желтоглазый! Он словно приворожил ее! Какое уж там убить — нечего и тешить себя фантазиями, если при одной мысли, что ему может быть причинен вред, она покрывается холодным потом и чувствует в себе готовность драться за него, как львица за своего львенка. Скверно! Ох как скверно любить человека, которого надобно ненавидеть. Ведь то, что он лично не убивал и не насиловал, — хотя как знать, так ли это? — является жалкой отговоркой, и она прекрасно понимает всю ее несостоятельность. Человек, санкционировавший убийство, — это не просто соучастник злодеяния, это его первопричина и, стало быть, главный виновник содеянного.
Девушка сжала голову руками. Она не хотела вспоминать рассказы Дадават и Бокко. Не хотела думать о том, что сделали настатиги с Нганьей, но пронзительные крики, стоны и жалобные стенания подруги продолжали звучать в ее ушах, и никакими разумными доводами заглушить их невозможно. Да и не было у нее этих самых доводов, ибо желтоглазый виновен во всех бессмысленных, диких жестокостях, продолжавшихся твориться в Городе Тысячи Храмов после смерти Димдиго. Это было очевидно. И все же Ильяс не хотела, не могла в это поверить. Уж очень хорошо она помнила, как он с отвращением к ненужной жестокости произнес в храме Балаала: «К лицу ли нам проливать кровь невинного младенца?» Но если это было не к лицу заговорщикам, у которых имелись веские причины уничтожить нежелательного свидетеля или даже соглядатая, то тем паче не к лицу, да и незачем, новоявленным правителям империи, на чью власть никто не собирается и, увы, не способен покуситься. Однако же кровь невинных льется. Зачем? Кому это надобно?
Нет, она явно чего-то не понимает, а Таанрета не спросишь — вон он опять начал метаться на постели и отдавать приказы идущим на штурм дворца воинам.
Девушка, склонив голову, прислушалась к хриплому шепоту больного. Ну так и есть.
— Мосты… Надо занять мосты… Почему не стреляют лучники?.. Дорогу! Освободите мне дорогу… Валихамун, дай мне твои ножи! Дети кидают их лучше тебя… Фанкел! Фанкел, не подпускай их к лестнице!.. — Желтоглазый замолчал, а затем хрипло и надсадно крикнул чуть слышным шепотом: — Назад! Назад, прах вас подери!.. Сочейросы обойдут нас с тыла… Смрадные колдуны… Они вырвали победу у нас из рук…
— Тихо, родной мой. Тихо. Дворец взят, Димдиго убит. — Ильяс не заметила, как очутилась подле ложа Таанрета, и удивилась, услышав собственный голос, ласково шепчущий: — Все плохое уже позади. Мы победили. Обитатели столицы были счастливы избавиться от самозваного императора.
— Счастливы… Ложь, ложь… Опять ложь!.. Все никогда не могут быть счастливы… — просипел, лязгая зубами, желтоглазый, сворачиваясь в клубок и зябко охватывая себя руками за плечи.
Уходя к Нганье, Уруб предупреждал, что приступы болотницы будут возобновляться, и посоветовал прислать в комнату служанку, дабы та поила больного целебным отваром и растирала снимающим жар маслом, но Ильяс была так погружена в свои мысли, что забыла последовать совету лекаря. Да и не хотела она подпускать кого бы то ни было к желтоглазому. А вернее, не хотела уходить от него сама.
Налив в чашу отвар, она заставила Таанрета сделать несколько глотков, закутала поплотнее в одеяло, но, несмотря на жаркий вечер, его продолжал колотить озноб. «Не очень-то помогло ему это душистое масло, да и отвар тоже», — подумала девушка, не в силах решить, стоит ли еще раз растереть желтоглазого или лучше притащить пару дополнительных одеял. Придя к мысли, что лекарю все же виднее, она открыла бутылочку с маслом, попыталась стянуть одеяло с больного, но тот вцепился в него изо всех сил и сипло пожаловался:
— Холодно! О, как мне холодно!..
Мгновение форани колебалась, а потом легла подле Таанрета и прижала его к себе, стремясь утешить и обогреть одновременно. Гладя его влажные, слипшиеся волосы, она шептала ему ласковые, бессмысленные слова, успокаивая, словно больное дитя или отнятого от матери щенка, догадываясь, что желтоглазого мучит не только болотница, но и одиночество. Доказательством этому было то, что, когда его скрутила болезнь, он не нашел ничего лучшего, как обратиться за помощью к почти неизвестной ему девушке. Но и помимо этого, видимо, были какие-то неразрешимые вопросы, заставлявшие его то метаться и скрежетать зубами, то вновь сворачиваться в позе эмбриона, словно желая спрятаться от бурь и потрясений внешнего мира. Однако облегчения это не приносило, ибо бури бушевали и в его душе и от них-то скрыться он не мог, даже погрузившись в болезненное забытье.
Когда Таанрет в очередной раз взбрыкнул, с душераздирающим стоном сдирая с себя одеяло, будто липкую, мешавшую ему дышать паутину, девушка подкатилась под его пышущий жаром бок, обнимая, уговаривая и чувствуя, что вот-вот разрыдается от жалости и невозможности помочь этому измученному человеку. Ильяс понимала, что стоит ему взмахнуть рукой — и шмякнется она на пол и будет выглядеть в собственных глазах дура дурой со своим детским состраданием, неумением помочь и стремлением все же во что бы то ни стало облегчить чужое страдание. И была страшно удивлена, ощутив, как обмякают и расслабляются от ее ласковых объятий и поглаживаний напряженные, бугрящиеся, как корни деревьев, мускулы рук. Как мягчает и расправляется сведенное судорогой ненависти и боли лицо, утихает бьющая желтоглазого дрожь.