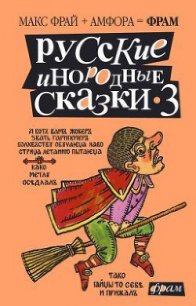Русские инородные сказки - 5 - Фрай Макс (серии книг читать онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
— Я куплю тебе на эти деньги рыбу.
— На удачу?
— Да, на удачу.
Богатырь-рыбу нельзя есть. Богатырь-рыба плавает где хочет и ест Рыбарей. Но если рыбаку повезет…
— Тебе везет, сын мой За! Тут снасти! И глаз! Новый, пестрый, полосатый, как у твоего младшего брата Сети. Спрячь этот глаз, когда Сети вернется домой.
— Отец, когда он войдет в дом, я подарю ему этот глаз.
Люли-люли
Мелколиствица к вечеру вся повыцвела-повывелась, не осталось ее нигде на лугу, даже и у кривых берез. До сумерек задержались только поледрянь да слякоть. Поледрянь, та шла все низом, низом, а взобравшись на пригорок, раскидывалась там вольготно, цвела, пахла, не забывала и семечек в коробок отсыпать. Слякоть стояла смирнехонько поодаль, тесно росла, корнем на корень наступала, а росла. Зато пчелы ее любили. Меду, бывало, принесут, если совсем ей невмоготу станет. Добрее пчел никого в лесу нет. Дикий лес потому что, молодой еще, бездумный совсем. Не ласковый. То-то.
Машенька за медом в лес и пошла. Медведя кормить чем-то надо? Надо. Долго ль до греха, если тот со слякоти на поледрянь перебиваться будет. То есть это она так медведю сказала, а у самой другое дело было.
До самого луга довез медведь Машеньку, та только отгоняла комарье, отводила рукой ветки, другой же держалась за клочную, нечесаную медвежью шубу.
На лугу бурый как-то сразу сник, прыти поубавил, а у кривых берез сел на землю и только некоторое время еще загребая по траве лапами, будто собрался куда-то плыть по слякоти да поледряни. «Миша, что ж ты?» — строго спросила Машенька на правах старшей, но сразу же и поспешила, не дожидаясь ответа, дальше. Потому что темнеет летом рано. А лес у нас молодой, дикий.
Тут еще в прошлом году такой случай был, что до сих пор от этого случая иногда то пуговица в ручье всплывет, а то башмак с дерева свалится. А остальное где — у ворон спроси.
Когда Машенька вышла к ручьям, было уже часов около восьми и начинал дуть самый что ни на есть ночной ветер. В ветреную пору у нас в лесу всегда холодно, особенно по низинам, но все же не настолько, чтобы глина у ручьев подзамерзла. Тяжелая, рыжая, она липнет к ботинкам и тянет вниз, когда карабкаешься вверх по склону. Цепляться за ветки? Да можно и так. Но все ведь давно сгнили, вот в чем беда Сгнили, цепляйся за них или не цепляйся. И главное, когда глина сбивается в этакий тяжеленный ком, тот падает с ботинка прямо в ручей, и — плюх! — разлетаются брызги.
Этот «плюх» и разбудил старую бабку-поречиху. «Машка?» — высунула она голову из дупла, щурясь на черные кусты у оврагов.
В этот момент подул настоящий ночной ветер, и сразу стемнело.
Мы с Чернем промышляем вроде бы по одной дичи, только он понизу идет, а я поверху лечу. Чернь длинный и темный. Глаз у него, говорят, вовсе нет, а там, где у людей глаза и нос, у Черня всё пасть. Жен у него сто, детей — тысяча И всех корми. Поэтому Чернь все время занят.
Я же птица вольная. Лечу куда хочу. А поскольку с Чернем у нас война, лечу я проведать, как у того дела-делишки. Ну и так, посмотреть, что в мире творится.
— Откуда дровишки?
Народ внизу затеял какую-то бучу. Что характерно, как всегда насчет моих дровишек.
Я спускаюсь еще ниже и присматриваюсь, кто там буянит.
Это вчерашние двое, и кто-то новый. При нем лошадка, воз хворосту. Сам мелкий, таких под ноготь — и нету. Двое, как водится, в зеленом. Вольные стрелки. По бегущим мишеням.
— Из лесу, — отвечает малец. Как будто и так не понятно откуда.
— Значит, дровишки. Один? Или у тебя еще отец где-нибудь тут по кустам…
— Хоронится! — шепотом подсказывает второй зеленый.
— Может, и отец. Слышишь, рубит? — И вижу я, что сейчас начнет он врать, что, мол, у отца большая семья, и все мужики-то, и все с топорами, и все за той вот осинкой. Ох не люблю я, когда врут. В тех, кто врет, какая-то червоточинка. Вот хотите верьте, хотите нет, а так оно и есть.
Я спускаюсь еще ниже и присаживаюсь прямо на дрова.
— Здорово, Тятя! — Зеленые смотрят весело.
— Здорово, лесной народ. Что, порубщика поймали?
— Да, Тятя!
— А раз порубщик, так и порубать его, а?
Зеленые стрелки хохочут, потому что они славные, веселые ребята. Я примериваюсь, устраиваюсь на дровах поудобнее.
Тюк! Один точный и страшный удар обрушивается на голову мальцу. Череп трескается, и наружу тонкой струйкой ползет серая труха Была червоточинка, была…
Машенька с бабкой-поречихой-то давно познакомились, еще когда деревенские в прошлом году пошли всей гурьбой в лес слякоть косить, а потом про тот покос почему-то забыли. Считай, осталось всё накошенное медведю. Тот рад был, домой совсем не приходил, ночевал даже в лесу. Что ему, большому такому, сделается? Машенька его и так и этак уговаривала, все впустую. Боялась Машенька, что тот слякотью порастет. Вот ее сколько кругом, а медвежья шкура для семечка куда как удобна, чтоб и прилететь, и сесть, и запутаться, и корешки пустить. А дальше поминай как звали косолапого.
Чуть ли не каждый день спозаранку выбиралась Машенька за околицу — и в лес, к медведю. Ну и угодила, конечно, в поречихину обманку. Из тех, после которых потом и пуговиц по ручьям не сыщешь. Вроде как видела она полянку, дерево на ней поваленное и всюду тяжелый, клочной мох, самый спелый, темный, под тон чащобной хвое. И у дерева, кажется, медведь. И этак высвечивают еще шубу ему солнечные пятна. Побежала — р-р-р-раз! — как о натянутую бумагу лицом, стало сразу темно, и с первым и последним вдохом запахло, как в медвежьих снах, орехами и медом.
Бабка-поречиха уже потом, в натопленном дупле, за самоваром, говорила, что ставит она обманки только на волков. Даже высыпала перед Машенькой горсть конфет в ярких обертках с картинкой: стоит на полянке маленькая девочка в нарядной красной шапочке. Стоит меж цветущей поледряни и держит в руках корзинку. Только Машенька конфет с волчатиной есть не стала вовсе, развернула да и отложила в сторону. Медом и орехами запахло. Медведь вспомнился. Стала Машенька плакать, в три ручья.
А где ручьи — там и сердце поречихино.
Рубить головы — это настоящая мужская работа. Так, чтобы щепки летели, и даже пусть попадают в глаза черт с ними, заживет-зарастет. Построить дом, срубить дерево, сделать сына. Самое главное — голова. Работа, что ни говори, не топорная. Тонкая работа.
Семерых настругал отец. Семерых схоронил. О восьмом и думать не стал.
Пошел в сарай — на крюки посмотреть, ремни подладить. Встал у стены, стал бревна считать. Вот он дед, вот и отец, и все сыновья тут… Все полегли.
Только тронул бревно рукой — чернячки полезли, повалили.
С чернячком главное — не заговаривать.
Потому что у чернячка вся голова — одна сплошная пасть. С такой-то пастью ловок на разговоры будешь.
— Мужик, — говорит чернячок, — не плачь. Я тебе помогу. Ты, — говорит, — почему плачешь?
И мужик, молчавший уже с неделю, мрачным пнем сидевший в избе, как-то сразу рассказывает все: и как ходил на дорогу за сыном, как хоронил его, встраивая уже в верхний венец сарая, как трижды собирался в лес, но трижды заворачивал домой… И как на третий раз застал у самых огородов троих, не то четверых лесных братьев, деловито высекавших искру над пучком соломы.
— Мужик, ты меня послушай, и я тебе помогу, — говорит чернячок.
Не бывало еще, чтобы кто-то чернячков слушал. Так, может, потому и житье не сахар.
— Вот ты скажи мне, мужик, почему зеленые братья деревни жгут?
Все-таки главное в чернячке хвост, а не голова.
Потому зеленые братья деревни жгут, что у них с мужиками война. Зеленый из желудя родится, а мужик из ветки, на которой желудь растет. Чем больше веток мужики срубят, чтобы детей выпилить, тем меньше желудей уродится. Оставишь зеленого в живых — он тебе деревню спалит. Оставит зеленый в живых мужика, так мужик ветку у дуба отпилит, желуди недозрелые ножичком кривым сошкурит и свиньям отдаст. А сам из ветки себе вырежет сына, а то и двух. И топор каждому подарит. Это правильно, когда у каждого сызмала есть топор.