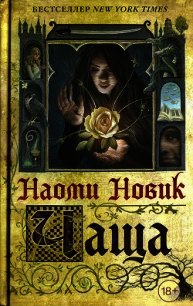Зимнее серебро - Новик Наоми (лучшие книги TXT) 📗
Я благодарна была ему за это. И воинам, что освободили нас из подземелья, хоть они и враги. Ни мужа, ни приданого у меня не было, да и подружек тоже. Матушка моя была женою бедного рыцаря, который все свое скромное имение проиграл да прозакладывал евреям. Мой отец выхлопотал матушке место при герцогском дворце, а сам уехал в крестовый поход и сгинул. Матушка вскоре тоже скончалась — от той же лихорадки, что и Аня, в ту же зиму. Герцогиня из жалости оставила меня при себе. Она горевала о маленькой Ане, а я была несколькими годами моложе. Но к той поре, когда Эрдивилас брал город штурмом, я уже выросла. А герцогиня укрылась у святых сестер еще до того, как нас выпустили из подземелья.
У меня никого не осталось. Я сидела на женской половине и пряла себе. Так прошли годы. Руки у меня стали болеть, если я работала слишком много, да и глаза уже не годились для искусной вышивки. Когда Сильвия, мать Ирины, принесла мертвого мальчика и сама умерла, все женщины исправно плакали. А я не стала. Я прокралась в детскую, где спала малышка. Никто ее не любил, да и мать ее не любили — верно, оттого, что обе они ни в чьей любви не нуждались. Крошка росла совсем тихой. Она не унаследовала диковинных глаз матери, и все же в ее взгляде сквозила нездешняя задумчивость. Когда я вошла, Ирина сидела в кроватке: верно, ее разбудили вопли плакальщиц. Сама девочка не плакала. Только подняла на меня свои темные глаза, и мне стало не по себе. Я уселась рядышком и стала петь ей и всячески успокаивать. Когда Эрдивилас вошел в детскую, он увидел, что за малышкой уже приглядывают. И велел мне делать это и дальше.
Я была только рада снова заполучить теплое местечко. Но герцог вышел, а Ирина все смотрела на меня так задумчиво, точно понимала, зачем я здесь. Разумеется, я вскоре полюбила ее. Мне ведь некого больше было любить. Пусть она не моя, но мне дозволили взять ее взаймы. Не знаю, что она ко мне чувствовала. Иногда глядишь на других ребятишек — так те со всех ног бегут навстречу нянюшкам и матерям, ручки раскинут, смеются, обнимаются, целуются. А она нет. Я себе внушала, что такая уж она уродилась и любовь у нее на свой лад — тихая, холодная, как только выпавший снег. И все же до конца я сама в это не верила. До того самого дня, когда явились посланцы от царя, чтобы доставить меня к ней и тем самым погубить ее. Тогда-то я и поняла все про ее любовь. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Она поспала немного на кровати, здесь, в хижинке. А я сидела у печи и пела ей, моей девочке, как раньше. И теперь я знаю, что она моя, а не просто взятая взаймы. Клубки, что я нашла тут, были смотаны неплотно, и я сумела их размотать даже своими негнущимися пальцами с набухшими суставами. И у меня при себе был серебряный гребень и щетка — все, что мать Ирины оставила дочери. Я расчесывала шерсть, и пряла ее заново, и сматывала. А после каждого нового клубка я подбрасывала полено в очаг. Так я и просидела за пряжей, пока Ирина не проснулась.
Отправилась она к нему, к ведьминому отродью, к черному супостату, что крадется тенью по дворцу и прячет дьявольскую личину за неземной красотой. А ну как он не станет ее слушать? Ну как обидит? Однако что толку мне беспокоиться — от моих волнений ни прибудет, ни убудет. Я ведь ничего тут не смогу изменить. Всю-то жизнь меня носило туда-сюда, словно речным потоком, а теперь вышвырнуло на незнакомый берег. И что мне делать? Любила я мою Иринушку, хранила ее сколько могла — да только не под силу мне уберечь ее от мужчин и от демонов. Я заплела ей косы, надела ей на голову корону и отпустила с богом. А когда она ушла, я занялась чем могла — сидела ждала, пряла, пока руки не начинали неметь, и тогда я опускала их на колени и прикрывала ненадолго глаза.
Проснулась я внезапно: последнее полено хрустнуло в печке. Снаружи доносились шаги, а я спросонья не могла сообразить, где я и почему так холодно. Шаги делались ближе и ближе — и вот Ирина открыла дверь. В первый миг я ее не признала — такая она была чужая. Стояла в дверях вся серебряная, с этой тяжелой короной на голове, а зима за ее спиной ярилась пуще прежнего, и она была точно частью зимы. Я так и оцепенела со страху. Но тут же поняла, что лицо-то ее, Иринино. И меня отпустило. Она вошла, закрыла дверь и вдруг стала внимательно ее разглядывать.
— Это ты сделала, Магра? — спросила она.
— Что сделала? — растерялась я.
— Да дверь же, — объяснила Ирина. — Она снова висит как надо.
Я никак не могла уразуметь: а раныие-то что с ней было не так?
— Я только пряла, — ответила я. Я хотела показать ей шерсть, да как назло запамятовала, куда же засунула все эти клубки. На столе их почему-то не оказалось. Ну да и бог с ними. Главное — вот она, моя девочка, я держу ее за руки, а руки-то у нее совсем ледяные. И она принесла мне целую корзину всякой снеди.
— Все ли хорошо, душенька? Не обидел он тебя?
Сейчас, в это мгновение, ей ничто не грозит. А что такое наша жизнь, если не одни сплошные мгновения?
Мы с Сергеем молча вытаращились на горшок с кашей. Потом оглядели все вокруг. Я вдруг вспомнила, что убирала шерсть на полку вместе с веретеном и вязальными спицами. А сейчас моя пряжа лежала кучей на столе. То есть это я так сперва подумала — «моя пряжа». Никакая она не моя. Она была смотана в клубки, и когда я взяла один в руки, то увидела, что и нить другая — гладкая, мягкая и гораздо тоньше. А рядом еще лежал серебряный гребень — до того красивый, самой царице впору расчесываться. И с картинкой — два рогатых оленя тянут сани по снежному лесу.
Я поискала свою пряжу на полке, но ее там не оказалось. А тонкая пряжа была того же цвета. Я еще раз внимательно поглядела: и сама шерсть была та же. Только спрядена по-другому. Кто-то мне словно показывал: вот как надо.
Сергей заглянул в дровяной ящик. Он наполовину опустел. Мы переглянулись. Ночью сильно похолодало, так что один из нас мог бы слезть с печки и подбросить дров в огонь. Но я с печи не слезала. И, судя по лицу Сергея, он тоже. Тогда Сергей сказал:
— Схожу, может, добуду белку или кролика. Заодно и дров принесу.
Сергей намыл мне шерсти с избытком, у меня еще много оставалось. Я прежде никогда не пряла такой тонкой нити, как эта, но теперь я старалась. Я долго-долго расчесывала шерсть серебряным гребнем, аккуратно, чтобы не поломать зубцы. И когда я наконец уселась за пряжу, то вспомнила, как учила меня матушка. Она мне наказывала натягивать потуже. «Попробуй-ка сейчас побыстрее, Ванда», — говорила она. А я все позабыла. Как матушка умерла, я перестала следить, чтобы пряжа была мягкая и тонкая. В доме все равно лучше меня никто не спрядет. Я посмотрела на свою юбку — связана грубо, и шерсть вся комковатая. Матушка, бывало, носила большие мотки пряжи к соседке через три дома — у той был ткацкий станок. И возвращалась с готовым полотном. Но мою-то пряжу ткачиха в работу бы не взяла. Вот и приходилось вязать одежду самой.
С одной-единственной куделью я возилась долго, наверное, больше часа. Только я закончила — тут и Сергей вернулся. Принес кролика, серо-коричневого. Пока брат свежевал его, я приготовила еще каши. Я все положила в горшок — и мясо, и кости, да еще картошки с морковкой добавила, чтобы жаркое вышло наваристое. В этот раз я целый горшок в печь поставила, нам с Сергеем вдвоем столько не съесть. И Сергей это видел, но промолчал, и я промолчала, и думали мы об одном: кто бы ни прял нашу шерсть, кто бы ни ел из нашего горшка, пусть он лучше ест кашу. А то кто его знает, чем ему захочется полакомиться, если каши не будет.
Я решила, что начну вязать, пока каша готовится. Надо бы прикинуть, сколько мне придется вязать, подумала я, чтобы лишнего не прясть. Я вывязала ряд на двойную ширину постели — все время прикладывала и измеряла — и так пошла вязать дальше. Работа у меня не спорилась. Я вязала на совесть, чтобы петли были ровные и не слишком свободные. Но привычки к старанию у меня не было. Все время отвлекалась и делала большие петли. А то, наоборот, в одном месте затянула и не заметила. Провязала уже три ряда и только тогда сообразила, что уж больно туго спицы в петли проходят. Я сперва решила, что уж с этого-то места буду внимательнее, но последний ряд у меня вышел такой плотный, что я совсем измучилась и продвигалась еле-еле. Наконец я плюнула, распустила три последних ряда и связала то место, где ошиблась, заново.