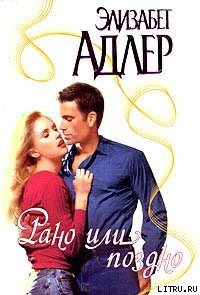Дни войны (СИ) - "Гайя-А" (книга жизни .txt) 📗
***
Бросив из рук ножны кинжала, словно забыв про ждущих воинов в арке, ведущей к лестнице, ее Наставник решительно подошел к Миле и обхватил за талию обеими руками, жадно прижал к себе.
— Обещай, что дождешься, — прошептал он, заглядывая ей в глазас, — слышишь, Мила, дождись меня!
Мила не могла уже вспомнить, что он говорил все эти долгие годы, и стерлись из памяти все другие его слова, но вот поцелуй запомнила навсегда. Настоящий поцелуй, такой, каким целуют лишь возлюбленных. Он длился, длился, и перехватило дыхание, а сердце не билось и даже не думало биться вновь. «Прошу, дождись, я вернусь, — вновь раздался его голос над девушкой, — вернусь к тебе, Мила».
А когда он ушел, не сказав больше ни слова, просто выпустив ее из крепких объятий — Мила так и стояла спиной к окну, и нечем было дышать, незачем было жить, и совершенно не у кого было просить помощи.
Девушки на прощание рассыпали вдоль дороги соль, что должна была отпугнуть злых духов и обмануть их, заменив собой слезы. Вышли молодые воительницы с цветами, вышли женщины в темных платках с белыми полосами, переговаривались, кланялись воинам. Милы среди них не было. Она хотела пойти на проводы отрядов, но не смогла найти в себе сил.
Прежде ловившая каждую улыбку Гельвина, теперь Мила пыталась найти оправдания внезапному поцелую, и не находила. Если только не чувствует ее Наставник того же — и Мила прижимала руки к алеющим щекам, и радовалась, что отец не видит ее.
Она так разволновалась, что на следующий день даже вынуждена была пойти гулять с несколькими другими девушками из дочерей воителей. Гордые кочевницы радовались, попав в большой город. Несмотря на то, что степной ветер уже не засыпал пылью им лица, они не расставались со своими расшитыми сетками, украшенными бисером и бусами. Сетки эти девушки степей накидывали на голову поверх вуалей. Это спасало от ветра и взвеси пыли и частиц песка, но лица кочевниц разглядеть не смог бы даже самый пытливый глаз.
В городе же считалось особым шиком носить сетку с узорами поверх вуали, но, подходя к торговым рядам или к лавке, откидывать первое покрывало назад — непременно задевая при этом прохожих, подруг и незнакомцев.
— Никаких манер, дорогая, — заметила вслух красавица сулка, разглядывая пристально новоприбывших кочевниц, — никаких…
— Ты видела их обувь, Нинья?
— Бог мой, лучше бы не видела. Можно сказать, босиком…
Над кельхитками смеялись. Ружские девушки среди кочевниц были в меньшинстве, уж слишком далеко осталась их родина, но над ними потешаться рисковали меньше. Сказывалась опаска при виде боевой раскраски их мужчин. Может, столичные жители и опасались прибывших, но Мила знала очень хорошо, что под слоями краски руги ничем не отличаются от любых других остроухих родичей. Разве что чуть смуглее от природы, вот и все.
Хотя горожане задирали нос, даже если сами происходили не из Элдойра и прожили в нем лишь несколько лет.
— Понаехали! — то и дело слышалось ворчливое на базаре.
— Понаоставались, — в тон смеялись прибывшие.
Мила тоже пошла с подругами на рынок и потому была одета, чтобы не потеряться, как и остальные. Чувствовала она себя неуютно, хотя в городе каких только нарядов не встречала. Были здесь и сабянки, одетые по моде Черноземья. Но пытливый взгляд девушки тут же вылавливал детали костюмов, отличавшиеся от исконных: слишком узкие платья, чересчур изукрашенные подолы, тонкие сандалии из замшевой кожи…
Перед стайкой разодетых красавиц расступались прохожие, и с любопытством их разглядывали торговцы. Удивляться жители Элдойра уже устали, а потому обходились умеренным любопытством по отношению друг к другу: в смешении стольких народов и племен, обычаев и обрядов, языков и диалектов ничто больше удивить не могло.
И Милу не задевали слова, которые она слышала — не привычный и милый сердцу степной ильти, а настоящая столичная хина — звенящий, прекрасный, описательный язык, в котором так много было слов, и который теперь казался девушке столь мертвенно-бесчувственным… а ведь она владела им, как родным.
«Но только для беседы с тобой, Хмель Гельвин, мой Наставник, мой возлюбленный».
Вместо тишины и покоя собственного дома Милу окружала вакханалия встревоженных улиц Элдойра, где многие дома не раз и не два держали осаду. Особенно много было показательных порок, и ужесточались законы; военное время запрещало многие прежде дозволенные вольности. Однако бурное оживление на улицах ничуть не пострадало.
Мила начинала скучать по просторам степей.
Дома у родни скучать ей не давали. Брат Суэль, как звали его многочисленные сваты, завел в своем доме самые богатые порядки. Его предки жили в Сабе и торговали с Элдойром; вся семья то переезжала в Элдойр, то спешила вдруг в Сабу, где когда-то породнилась и с Ревиаром Смелым.
Дома у Суэлей все было по-сабянски; обилие бордовых ковров, оранжевых плетеных светильников, громоздких ваз-сосудов под всевозможные пряности и дурман всех сортов, и тщательно загороженные женские комнаты — дальние и отделенные от остального дома коридорами и ажурными воротцами. Двери, конечно, были выкованы под заказ у кузнеца из лучшей бронзы и начищены до блеска.
За ними располагался алый полог, под ним — тонкий розовый шелковый занавес, а уже за ним Мила привыкала теперь ежедневно грустить по Хмелю.
Возможно, ей бы и понравилась обстановка в другое время — и обилие мягких ворсистых ковров, которых ей прежде так не хватало в доме отца, и певчие птицы разных пород и окрасок, и огромное множество занятных вещиц. Сестры и молодые родственницы, занятые в основном сплетнями и любовными томлениями, не менее трети суток посвящали красивому тоскованию, пению, танцам-представлениям и прочим забавам обеспеченных горожанок.
О нет, эти кочевницы уже не были теми, что окружали Милу обычно. Эти не ходили за скотом в пыльную бурю и не ночевали под открытым небом, кроме жарких дней, когда они ложились спать на закрытые топчаны во внутренних дворах.
А внутренние дворы! Мила с тоской вспоминала просторный запыленный двор брошенного дома в Лерне Анси. Ревиар чаще тренировался там, но здесь его выложили нежно-голубой и лазоревой мозаикой и завесили гирляндами; на растущей в центре туе развесили ленты и украшения, брелки и талисманы, призванные, по языческим древним представлениям, защитить от сглаза. При виде Ревиара сваты его обычно, краснея, прятали безделушки подальше: Ревиар был приверженцем строгого Единобожия и беспощадно сражался с суевериями.
Тут же располагался и колодец. На плетеных циновках, подложив мягкие новенькие, расшитые тушаки, гости могли наслаждаться негой: под руку попадались бесконечные сладости, настольные игры и опустошенные трубки. На одной лишь четверти террасы Мила с удивлением насчитала сорок две подушки — разных форм и размеров, обшитых самыми замысловатыми узорами и символами.
Сестры втихомолку посмеивались над своей провинциальной родственницей; они и жалели ее, как отшельницу, которую отец-невежа держал в черном теле. Все-таки сабяне привыкли считать себя культурным центром Южного Черноземья, и к кельхитам относились со снисхождением.
И в нежных сумерках Предгорья Мила, выбираясь на крышу, слышала снизу их мелодичную речь на ильти — на сабянском диалекте, но все же такую понятную. Но ничто не могло одолеть нарастающую боль — ядовитую, тяжелую смесь тоски по родным краям, страха перед будущим, грусти от разлуки с любимым.