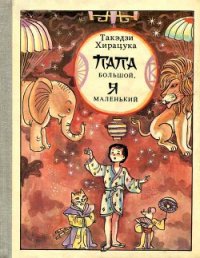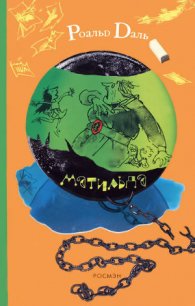Маленький, большой - Краули (Кроули) Джон (читать книги бесплатно .txt) 📗
— Я не употребляю наркотики.
— Ага.
Точно наметив порцию, Джордж отрезал своим флорентийским инструментом уголок плитки, раскрошил его кончиком ножа и кинул в свою чашку. Помешивая содержимое чашки ножом, он глядел на родственника, который старательно и деловито дул на свой кофе. До чего же хорошо быть старым и седым и уметь брать от жизни все в пределах разумного.
— Итак, — произнес Джордж. Он вынул нож из кофе и увидел, что гашиш уже почти весь растворился. — Расскажи нам свою историю.
Оберон молчал.
— Ну давай, выкладывай. — Джордж с жадностью глотнул ароматное варево. — Новости из дома.
Сперва пришлось клещами тянуть из Оберона слова, но к ночи он начал говорить связными фразами и даже снизошел до целых историй. Джордж был удовлетворен; его приправленный кофе кончился, а из пересказанных Обероном обрывков составилась целая жизнь, полная занимательных подробностей и странных совпадений, сильных чувств и даже волшебства — да, волшебства. Заглядывая в потаенные глубины сердца своего родственника, Джордж чувствовал себя так, будто созерцает в распиленной пополам раковине моллюска, который уютно там свернулся.
Оберон покинул Эджвуд рано, пробудившись, как и собирался, перед рассветом — способность просыпаться, когда сам решит, он унаследован от матери. Он зажег лампу. Оставался еще час или два до того времени, когда прошаркает в подвал Смоки, чтобы запустить генератор. В низу груди, в диафрагме, чувствовалась напряженность и дрожь, словно что-то стремилось выбраться оттуда наружу. Ему было знакомо выражение «бабочки в животе», но он принадлежал к тем людям, кому оно ничего не говорит. Да, ему случалось ощущать в животе бабочек, как случалось до дрожи волноваться, трястись от испуга; не однажды он не владел собой. Но ему всегда казалось, будто это его личные, незнакомые другим людям ощущения, и он не подозревал, что они встречаются на каждом шагу и даже имеют названия. Неведение позволяло ему сочинять стихи о своих таинственных ощущениях. Надев свой аккуратный черный костюм, он бережно сунул пачку машинописных страничек в зеленый холщовый рюкзак, сложил туда запас одежды, зубную щетку, что еще? Допотопный «жиллетт», четыре кусочка мыла, экземпляр «Секрета Братца Северного Ветра» и бумаги для юристов, касающиеся завещания.
Торжественно, воображая, что делает это в последний раз, он прошелся по спящему дому на пути к своим неизвестным судьбам. Дом, собственно, совсем не казался спокойным, а словно метался и ворочался в тревожном полусне, испуганно открывал глаза, заслышав его шаги. Коридор был залит замороженным зимним светом; воображаемые комнаты и залы были реальными в темноте.
— У тебя небритый вид, — неуверенно заметил Смоки, когда Оберон вошел в кухню. — Хочешь овсянки?
— Я не пускал воду и вообще не шумел, чтобы всех не перебудить. Мне, наверное, кусок не полезет в горло.
Смоки продолжал возиться со старой дровяной плитой. Ребенком Оберон всегда поражался, когда видел, как отец ночью отправляется в постель здесь, дома, а на следующее утро возникает в школе у его парты, словно перенесшись по воздуху или раздвоившись. Когда он в первый раз поднялся так рано, что застиг отца на пути от сна к школе, с нечесаными волосами и в клетчатом халате, ощущение было такое, словно он застал врасплох фокусника. Но на самом деле Смоки всегда сам готовил себе завтрак и продолжал это делать даже в последние годы, когда глянцевая электрическая плита стояла в углу кухни холодная и бесполезная, как гордая старая домоправительница, которую отстранили от дел, — продолжал, хотя обращался с огнем так же неловко, как с множеством других вещей. Ему просто приходилось теперь раньше вставать с постели.
Оберон, раздраженный медлительностью отца, склонился над плитой и моментально разжег ее. Смоки торчал рядом, засунув руки в карманы халата, и восхищался. Потом они сели напротив друг друга, положив себе овсянки и налив кофе, который был получен в подарок от Джорджа Мауса, из Города.
Они посидели минутку, сложив руки на коленях. Смотрели они не в глаза друг другу, а в карие бразильские глаза двух кофейных чашек. Затем Смоки, смущенно кашлянув, достал с высокой полки бутылку бренди.
— Дорога дальняя, — сказал он и плеснул бренди в кофе.
Смоки?
Да, Джордж понимал, что в последние годы он испытывал временами некоторое стеснение чувств, устраняемое с помощью глотка спиртного. Ничего страшного, всего лишь глоточек, а потом Смоки начал спрашивать Оберона, уверен ли он, что ему хватит денег, захватил ли адреса дедушкиных агентов и Джорджа Мауса и юридические бумаги, и так далее, о делах наследства и прочих. И Оберон отвечал: да.
Даже после смерти Дока его истории продолжали печататься в городских вечерних газетах — Джордж прочитывал их даже раньше, чем страничку комиксов. Кроме этих посмертных сочинений, подобных беличьим зимним запасам, Док оставил кучу дел, большую и запутанную, как заросли шиповника; юристы и агенты ее распутывали, и работы им могло хватить на годы. Оберона эти колючие заросли интересовали особенно, так как Док выделил ему долю наследства, благодаря которой он должен был прожить год-другой без забот, занимаясь литературой. Собственно, Док надеялся, — хотя стеснялся в этом признаться, — что его внук (и он же — лучший его друг в последние годы) пустится в маленькие приключения, хотя Оберон в этом смысле находился в невыгодной ситуации, потому что ему пришлось бы их устраивать, в отличие от Дока, который долгие годы получал их из первых рук.
Джордж без труда мог себе представить, как теряешься, когда впервые поймешь, что умеешь разговаривать с животными. Никто не знал, как долго нарастала в Доке эта уверенность, хотя некоторые из взрослых вспоминали, как он в первый раз ею поделился, робко, как бы прощупывая почву. Они приняли это за шутку, не то чтобы удачную, но шутки Дока никого особенно не смешили, кроме миллионов детей. Позднее это сообщение приняло форму метафоры или загадки: он пересказывал свои беседы с саламандрами и гаичками и таинственно улыбался, как бы предлагая домашним угадать, почему он так говорит. Под конец он перестал прятаться: разговоры были слишком увлекательными, чтобы держать их при себе.
Поскольку все это совершалось в то время, когда Оберон только входил в сознательный возраст, у него сохранилось единственно впечатление, что дед набирался сил и уверенности и слух его все обострялся. Однажды, когда они, по своему обыкновению, долго гуляли вместе в лесу. Док наконец перестал притворяться, будто его беседы с животными — это выдумка, и признал, что передает подлинные их слова. Оба от этого почувствовали себя лучше. Оберон никогда особенно не любил игру в притворялки, а Док терпеть не мог обманывать ребенка. По его словам, научных основ своего дара он не знал; быть может, причиной была длительная увлеченность. Так или иначе, понимал он не всех животных, а некоторых, а именно мелких, которых лучше знал. Он не был знаком с медведями, американскими лосями, редкими и баснословными кошками, хищными птицами, одинокими и длиннокрылыми. Они то ли пренебрегали им, то ли не умели разговаривать, то ли не любили — трудно сказать.
— А насекомых и жуков? — спросил Оберон.
— Некоторых, но не всех.
— Муравьев?
— Да, да, муравьев. Конечно.
Стоя на коленях перед новым желтым холмиком и держа внука за руки, Док с готовностью перевел для него незамысловатые профессиональные беседы муравьев, находившихся внутри.
Оберон уснул в ветхом широком кресле, свернувшись под одеялом, как и подобаю человеку, поднявшемуся так рано и преодолевшему долгий путь по множеству дорог. Но Джордж Маус, подверженный невралгии и головокружительным полетам Высокой Мысли, бодрствовал у постели мальчика и продолжал подслушивать рассказ о его приключениях.
Когда, не притронувшись к овсянке, но, осушив до дна чашку с кофе, Оберон вышел через большую парадную дверь (отец покровительственно обнимал его за плечо, хотя и уступал ему ростом), ему стало ясно, что без торжественных проводов дело не обойдется. Сестры, все три, вышли с ним проститься; Лили и Люси брели под руку по аллее (Лили несла в двойной холщовой сумке через плечо своих близнецов), а Тейси как раз выворачивала туда на велосипеде.