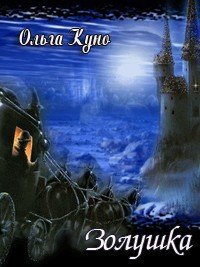Снежный король - Котова Ирина Владимировна (книга жизни TXT) 📗
— А что, — спрашивает с усмешкой, — не огрубели ли руки твои белые?
Я на ладони свои саднящие посмотрела, за спину спрятала.
— Да ты что, чудо-юдо страшное, — говорю, — с чего там грубеть? Машешь лопатой и машешь. А только зачем ты меня позвал — разговоры разговаривать?
— А не хочешь ли ты, — интересуется подозрительно ласково, — поснедничать со мной?
Ладонями хлопнул, ногой топнул — встал передо мной стол тяжелый, тонкой скатертью накрытый, а на столе том кушаний видимо-невидимо, и яблоки румяные, и грибы моченые, и поросенок печеный. И хлебушек сладкий, теплый, белый — ровно как Марьюшка дома пекла. Аж слюни потекли. Поняла я — извиниться так пытается Кащей. Да только не нужны мне такие извинения, не собака я, чтобы за кость хвостом вилять.
— Спасибо, — сказала я через силу, — да только не ровня я тебе, чтобы с тобой за один стол садиться. Сыта я кашей, Кащей Чудинович. Говори, какую следующую службу даешь.
Он головой покачал, с трона встал, ко мне подошел, за подбородок взял. Глаз я не опустила, пытаюсь улыбнуться — не выходит. Говорит мне Авдотья тише быть, а я как нарочно его дразню. А еще умной себя считаешь, Алена!
— Немочь бледная, рябая, — говорит, — и что это я тебе угодить пытаюсь, когда я здесь господин, и что захочу — то мое будет?
Я застыла, страшно мне стало — так зло на меня смотрел, дыхание переводил. Рукой по шее повел на плечо, с плеча рубаху мою нищенскую спустить пытается…
— Ты, — проговорила с усмешкой, прямо в черные глаза глядючи, — мне с навозом уже угодил, счастья добавил, ледяной водой дополнил, не пугай, чудовище грозное, мерзопакостное, работу давай.
— Пошла прочь, — руку отнял и как рявкнет, а у самого глаза огнем зажглись яростным, — псарня у меня есть, псы охотничьи, злые. Вычистишь, собак вымоешь, накормишь! А разорвут — туда тебе и дорога!
— Доброта твоя, — а голос у меня ласковый, медом льется острым, — не знает границ. Мог бы и к свиньям отправить, а что собаки? Собак я люблю.
Он усмехнулся невесело, взглядом своим ожег, ладонью бережно по щеке погладил — потянулась я за его рукой, зажмурилась — и отвернулся. И ушла я, так письмо и не отдала.
В псарне царской, забором огороженной, стоял визг и лай. Я у Авдотьи два ведра с костями взяла, к забору тому пошлепала — тяжелы ведра, да с водой было тяжелее к конюшням носиться. Выслушала меня Авдотья, повздыхала:
— Нашла, — говорит, — коса наша черная на камень рыжий. Ох, дурные вы, дети, друг друга изводить-то! Вместо того, чтобы миловаться и за ручки держаться. Слушай, Алена, научу я тебя, помогу, уж очень сердце за тебя болит. Ощенилась с месяц назад во дворе одна сука, сходи к ней, добрая она, ласковая, с щенятами поиграй, будет от тебя щенячьим духом пахнуть, не тронут тебя псы.
Так я и сделала. Поиграла с кутятами, с щенятами лопоухими — излизали меня всю, изнюхали так, что псиною я пропахла, а сарафан мой серый весь в собачьей шерсти извалялся, и пошла с ведрами костей к псарне.
Дошла я до ворот — собаки внутри юлами вьются, зверями дерутся — вздохнула, и открыла створки. И быстренько за собой закрыла.
Тут на меня зарычали, окружили, клыки щерят, вперед бросаются, воздух ноздрями тянут, порвать хотят. А я от страха с места двинуться не могу, ноги подвели, осела я на землю и заплакала.
«Ну, спасибо, — думаю, — Кащеюшка, отольются тебе мой страх и мои слезы. Не выживу тут, так прокляну, что всю жизнь меня вспоминать будешь».
Подвинула я ведра вперед, стараясь в крови не испачкаться — и то ли собаки очень уж голодны были, то ли щенячий запах помог, только накинулись они на угощение, на меня внимания не обращая, кости утаскивая. Вмиг ведра опустели. Поднялась я на негнущихся ногах, ведра прихватила и к воротам повернулась. А там Кащей стоит, плетью играет, глазами своими бесстыжими сверкает, и лицо у него виноватое и непримиримое.
— Что, — говорю почтительно, кланяясь, — проверить решил, не отравлю ли твоих песиков, не обижу ли? Небось и плеть взял, чтобы их от меня защитить?
— Да, — отвечает мрачно, — собаки-то у меня дорогие, попортишь еще. Но, вижу, справилась ты, не побоялась. Вот и корми, и убирай, пока не найдут мне нового слугу, чтобы за собаками ходил.
Развернулся, плетью с досадой о сапог щелкнул, искры высек и пошагал к терему. А я опять лопату взяла, и стала двор чистить, от рычания вздрагивая да песню напевая, чтоб не так страшно было.
Шесть дней я так убирала, по вечерам письмо родным дописывала, а на седьмой, когда пришла с ведром, уже прибежали все псы ко мне ластиться, в руки тыкаться, на грудь прыгать, в щеки лизать. А я смотрю — одна псина хромает, лапу к груди поджимает. Протянула руку посмотреть — так та собака меня за руку и тяпнула.
Я потихоньку-потихоньку, чтоб не видел никто, руку водой промыла, тряпицей замотала, и пошла за ворота искать траву лечебную, для себя да для твари бедной. Успела увидеть, что загнана в лапу длинная щепа, собака лапу лижет, а вылизать ее не может, уж и загноилось там все.
Трав много мне нужно было — после того, как деда Пахома я на ноги подняла, повадилась ко мне челядь ходить, лечения просить, так что за неделю я все Авдотьины запасы и израсходовала. И звать меня стали тут не обидно — Крапива, — а уважительно, Алена-целительница.
Долго шла я по стольному Златограду, на обилие шумного народа дивясь — тут и купцы, и крестьяне с телегами гружеными, и такие же чернавки, как я, и господа богатые, важные. Дома богатые, дороги камнем выложены, а торговые ряды какие большие! Чуть не потерялась там, так засмотрелась!
Вышла за околицу, пошла на луга, где коровы пасутся толстые, царские, да точно так же пахнет землей и цветами, как у нас наверху. Набрала ромашки и крапивы, подорожника и мать-и-мачехи в подол, посидела на солнышке — надо вставать и на работу торопиться, да только сморило меня там, на лугу, в сон унесло.
И снилось мне, что подъезжает конь-огонь, а с него Кащей спрыгивает, злющий, что та крапива, окрикнуть меня хочет, но замолкает, надо мной склоняется и в уста меня целует. И сладко мне так от поцелуя царского, что прерываться не хочется, и руки его ласковые, и глаза жаркие, и шепот нежный «Душа моя, белочка рыженькая, ненаглядная…»
А очнулась от окрика грозного:
— Что, бельчонок, сбежать вздумала?
— Что ж орешь ты так, надежа-царь, — говорю недовольно, ухо потирая, — сам подумай, куда сбегу я, если мы под землей? Работу закончила, трав вот набрать пошла и под солнышком уснула.
— Оно и видно, — смеется с чего-то, настроение хорошее, и на ноги мои голые, ибо в подол трава собрана, смотрит. — Поспала на солнышке, и в два раза больше веснушек на щеках высыпало! — и по щеке меня погладил, губу задел, сам облизнулся. — Перегреешься ведь, заболеешь, белочка. Садись на Бурку, рыжая, домой тебя отвезу.
— Да какой это мне дом? — удивилась я, от него отступая. — Дом у меня где батюшка с сестрицей ласковой, а тут у меня тюрьма мрачная с хозяином злым, яростным.
Нахмурился он, за руку схватил — я и ойкнула, выдернула, к груди жму, баюкаю укушенную.
— А ну-ка, белка, руку покажи, — повелел Кощей. Я ладонь недовольно протянула, он тряпицу размотал, укус увидел, головой покачал и давай мне над запястьем заклинания шептать. Шептал-шептал, пока не зажило все. Погладил мне руку, да так и остался рядом, пальцы мои сжимая. Стоит, глаза туманятся, зубы скалятся, дыхание сбивается — тяжело, видимо, колдовство далось. Ой, тяжело — уже в волосы пальцы запустил, к губам клонится, не остановлю — быть беде!
— А чего это ты, владыка подземный, за простой девкой в погоню бросился, сам белы царски рученьки прикладываешь, не брезгуешь? — спросила я ядовито. — Али нравлюсь я тебе?
Он глазами сверкнул и рычит:
— Извести меня решила, беда-девка? Что ты жилы из меня тянешь, что, нос задрав, ходишь? Да ты знаешь, сколько таких, как ты, у меня бывало? На ночь приходят, кланяются, утром уходят, руки целуют!