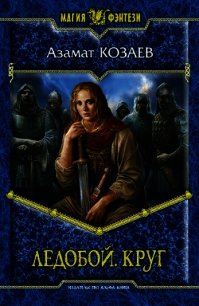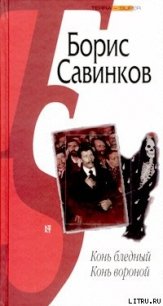Круг - Козаев Азамат (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
Вечером заглянула в гончарный конец, там должен был определиться самый мастеровитый гончар. Соперники уже расписали и покрыли глазурью свои работы, люди толкались у черты, и лишь двое стояли в круге – молодой и пожилой. Вынесли творения рук человеческих – неописуемо красивый и пестрый, изукрашенный желтыми и красными цветами, пузатый кувшин молодого мастера, и простецкий, без хитрых завитушек, полностью синий, как небо над головой, кувшин второго.
– Гли-нец, Гли-нец! – кричали сторонники молодого гончара. – Пест-рый, пест-рый!
– Поглядим еще, – ворчали старики. – Ишь ты, пестрый!
Верна поджала губы. Ну да, кувшин молодого гончара, без сомнений, красивее. Какие цветы! Какая шейка! Работа пожилого мастера проще и стройнее, что ли. Тем временем судья по очереди распробовал питье из обоих кувшинов. А по тому, как изменилось его лицо, толпа замерла, предвкушая неожиданность. Какое-то время кувшины, полные воды, стояли на солнце, досыхали снаружи, и судья просто не стал тратить слов. Разведя руками, молча предложил попробовать всем желающим.
– Вода холодная! – изумленно пробормотала Знойка, невеста Глинца. – Как из родника!
– Уж похолоднее, чем отсюда! – язвительно заметил старый мастер и указал пальцем на расписной кувшин Глинца.
– Зато этот красивее!
– А из этого вода в жару холоднее!
– Красивее…
– Холоднее…
– Тихо-о-о! – Судья взмахнул руками, призывая к тишине. – Тихо, люди!
Разгоряченный люд мало-помалу приумолк, и судья строго повел глазами в обе стороны.
– Тихо! Не устраивайте базар в гончарном конце! Дабы никто не сказал, что судья пристрастно дышит к тому или другому, объявляю громогласно: в синем кувшине вода холоднее, а пузатый расписан лучше и слеплен причудливее. А теперь определяйся, народ, что тебе милее!
Толпа смешалась, какое-то время бурлила и толкалась, ровно пузырьки в кипящем котле, потом снова разделилась. За Глинцом встал народ и за мастером Суховеем встал, а только получилось так, что народу за пожилым гончаром образовалось больше. Чего греха таить, Верна и сама встала за Суховеем. Подумала. Поколебалась. И выбрала. Не в красоте дело, хотя и она тоже важна, но, в конце концов, нужно перестать клевать на яркие перья. Повелась бы на красоту и пригожесть, проворонила нечто важное в жизни, хотя… и так проворонила. Безрода уже не вернешь.
– Ворожба! Ворожба! – понеслось из толпы, стоявшей за Глинцом. – Где это видано, чтобы кувшин стоял на прямом солнце, а вода в нем осталась холодна, словно только что из ключа! Ворожба, ворожба! Нечестно!..
Судья вопросительно посмотрел на Суховея. Пожилой мастер усмехнулся, торжествующе оглядел обе толпы, подошел к синему кувшину, стоящему на лавке, взял в руки. Рассмеялся, поднял над головой и грохнул о землю. Во все стороны брызнули остатки воды и осколки, люди ахнули, особо впечатлительные даже прикрыли рот руками. Старый гончар поднял один из черепков и бросил Глинцу. Тот, словно диковину, принял осколок, покрутил в руках.
– Двойные стенки, – изумленно промычал молодец. – Да тут же двойные стенки!
– Ворожба, ворожба! – передразнил Суховей и обнял друзей. – Вся ворожба идет отсюда! – Постучал себя по лбу, и все вместе, громко смеясь, ушли бражничать, отмечать победу.
– Козу назову Чернопяткой, – уже отойдя на несколько шагов, распорядился Суховей насчет выигрыша. Белоснежная коза с черной ногой стояла у ближайшего плетня, накрепко привязанная к жердине. Кто-то из друзей тут же припустил отвязывать рогатую. Глинец, Знойка, их сторонники разочарованно кивнули и стали расходиться. Надо полагать, также бражничать.
– Я не хочу, чтобы эти люди погибли, – прошептала Верна. – Не хочу.
Завтра, когда в городе вспыхнет рубка, горожане могут пострадать, и будет невыносимо больно смотреть в рассвете на холодные тела Суховея, Глинца, Знойки… Эти люди должны творить, лепить, обжигать, расписывать кувшины яркими цветами, смеяться, выигрывать коз, бражничать…
– Домой! – Верна тряхнула головой и решительно направилась к постоялому двору. Гончары почти все разошлись, не оставаться же в расстроенных чувствах посреди улицы. – Утро вечера мудренее.
Девятеро по обыкновению не сказали ни слова. Просто развернулись и пошли следом.
Уснуть не смогла. Ворочалась, кряхтела, устраивалась поудобнее, а как провалилась в тревожное, чуткое забытье – сама не поняла. Кто-то из парней потряс, и тут же вскочила.
– Пора. Час быка.
Вот и все. Десять против тысячи.
Город сипел, булькал, стонал, почти из каждого двора несся вовне богатырский храп. Как и предсказывал Маграб, на улицах тут и там стояли безлошадные телеги и бочата. Ни единой живой души десяток на пути не встретил, прошли пустые улицы, ровно тени. Где-то рядом, в соседнем переулке бряцал доспехами дозор, но скрыться от него вышло проще простого – за версту поймешь, где они и куда идут. По срединной улочке из трех вышли на площадь, и Верна даже не заметила, как оказалась в полукольце неизменной подковы – трое сзади, трое слева, трое справа.
– Эй, кто идет? Пугач, ты?..
– Нет! – крикнула. Вышли на середину площади, светочей, понятное дело, не несли, старались не шуметь, не греметь, не топать. И все равно даже странно, что заметили так поздно. Еще сотня шагов, и все…
Впереди у ворот загремело железо, клинки стражи покинули ножны, дозорные запалили светочи, и несколько человек пошли навстречу.
– Через пятьдесят… через сорок… через двадцать шагов они увидят, – шептала сама себе. Отчаянно захотелось пить, и хоть деревяшки к ногам привязывай – того и гляди, подогнутся, словно размоченные хлебные мякиши.
– Что… что… кто вы такие?! – Едва десяток вошел в круг света, старшина дозора оторопел, встал на месте и медленно выставил перед собой меч.
– Быстро соображаешь, – усмехнулась Верна. За несколько мгновений несколько шагов, разделивших два десятка, истаяли, как снег на солнце.
Они даже не успели понять, что произошло. Девятеро и Верна прошли сторожевой отряд не останавливаясь, только мечи и светочи глухо попадали наземь. Завозилась, помог Серый Медведь, но дозорных не спасли ни шлемы, ни броня. С троих посыпались кольчужные кольца, ровно бусы с порванной нити. В скупом свете огня мелькнули разверстые дыры в доспехе, вмиг покрасневшие поддоспешные рубахи, и наружу полезла кровища. Сторожевая сотня не успела взяться за луки, десяток Верны встал в самом створе ворот и «подкова» развернулась горлышком к городу.
Звонко пропел тревожный рог, возвещая нападение, сотня, теперь неполная, изошла криками и лязгом железа, по ступеням затопали дружинные, и перед воротами, закрывшись щитами, встал боевой порядок.
– Мама, мамочка, – прошептала Верна. – Скоро свидимся…
Их не спасли щиты. Не спасли мечи. Под ударами девятерых клинки ломались, ровно берестяные, парни просто отодвигали щиты плечами и резали дружинных, точно броненосцев, опрокинутых на спину. Броня имеется, да толку нет. Раз-два, раз-два, раз-два, вот и вся премудрость… неясный, глухой стук падающих тел слился в дробь, доспех лязгал на камнях, точно серебро на брусчатке. Раз или два Верна оглянулась – по бокам мощно ворочались в полутьме жуткие чернильные пятна, и только избела-небесным огнем полыхали девять пар глаз в тени башлыков. Светочи давно валялись на земле, которые погасли, которые нет, и лишь в прихватах на городской стене масляно чадили две огромные чаши.
Девятеро будто плясали, резко, гибко, быстро, каждое движение несло смерть; так же бессильны стали бы отроки в лесу против стаи волков. Серый Медведь рубил наотмашь, и под его клинками распадалось все, что попадало под удар, – щиты, мечи, тела… Смачно и отвратительно чавкало, кровь брызгала так, ровно заплакал мелкий моросящий дождь, капли постоянно падали Верне на лицо. Душа закрылась, пока не доходит, но скоро горячка боя спадет и для ужаса внутри не хватит места. Гогон Холодный косил дружинных, ровно луговой клевер, те и впрямь казались неподвижной травой подле размашистого косаря. Будто сон-цветами объелись, мечи ходят лениво, неуклюже, того и гляди уснут сторожевые. И засыпали. Последним сном, навсегда.