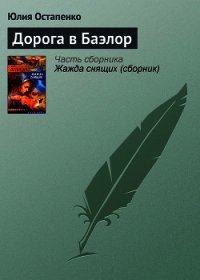Ненависть - Остапенко Юлия Владимировна (читаемые книги читать TXT) 📗
Он наклонился, несмело коснулся шишки. Мимо прогрохотала карета, тяжело ворочая золочеными колесами. Когда Дэмьен выпрямился, сжимая в похолодевших пальцах сосновую шишку Гвиндейл, карета уже сворачивала за угол, и он мельком успел увидеть белую женскую руку, безвольно вывесившуюся из окна ладонью вверх, словно ее обладательница без сознания или мертва. Он опустил глаза и посмотрел на шишку. Вне всяких сомнений, это была та самая — он узнал эту старуху. Сейчас он понял, что она чем-то похожа на женщину-менестреля из Тэберга. Такой она станет в сто двадцать лет… если не сгорит до той поры.
«Как ты доставила ее сюда, Гвин?» — подумал он удивленно и тут же решил, что это не имеет никакого значения.
Дэмьен поднял голову и увидел, что стоит напротив «Черной цапли». Странно, что ноги занесли его сюда. Странно, что солнце зависло как раз над черепичной крышей постоялого двора. И, наверное, ничуть не странно, что шишка лежала на дороге, приведшей его в это место.
«Ты же знала, что делаешь, Гвин?» — в который раз подумал он, не сумев сдержать улыбки, и замер, совершенно отчетливо услышав в ответ:
«Конечно, знала. Я ведь всегда любила тебя».
Он не стал думать о том, что услышал. Не стал думать даже, слышал ли это, или то был лишь плод его воспалившегося, взбунтовавшегося разума. Он просто сжал шишку в кулаке, пошел вперед, к гостинице, толкнул дверь, переступил порог.
И увидел ее.
Но, в отличие от нее, знал, что надо делать. Хоть и не знал, что знает.
Дэмьен, убийца без клички и имени, увидел Диз, графиню даль Кэлеби, которая шла за ним одиннадцать лет, и Диз, графиня даль Кэлеби, увидела его. Они впервые увидели друг друга с той ночи три года назад, которая сделала их обоих теми, кем они сейчас пытались остаться.
Диз стала подниматься с места, придерживаясь левой рукой за спинку стула. Дэмьен знал, что она сделает, когда встанет, и пошел к ней, хотя гораздо логичнее было бы развернуться и убираться отсюда. Но он пошел к ней, глядя на нее и в нее — ей в лицо, в глаза, точно такие же, как его собственные, — того же цвета и с той же смертельной усталостью в самой глубине, за зрачками. Он шел, хотя она уже положила ладонь на рукоять меча, а при нем не было никакого оружия, шел, хоть и видел в ее глазах то, что видел в его глазах солдат-наемник, давший ему жизнь, шел, потому что знал: это инициация Тьмы, инициация Смерти, он должен пройти через нее, если хочет встретиться с Богиней. А он хотел — или думал, что хочет. Знал, что должен хотеть.
И поэтому он подошел вплотную к столу, отделявшему их с Диз друг от друга, не отрывая взгляда от ее широко распахнутых, изумленно-ненавидящих глаз, и в тот миг, когда она рванула меч из ножен, резко выбросил вперед левую руку и перехватил ее запястье. А когда она, вздрогнув, метнула свободную руку вперед, пытаясь ударить, протянул вперед правый кулак и разжал его.
И ее кулак, несшийся к нему сквозь спертый, насыщенный винными парами воздух, разжался тоже, словно сникая перед этой внезапной преградой. Рука Диз, сжимавшая меч, безвольно упала, а другая — та, что хотела ударить, убить, вырвать сердце живьем, — опустилась и легла на сосновую шишку Гвиндейл, лежащую на его открытой ладони.
Они застыли над столом, соединив руки через кусочек несуществующей осени, которой касался Серый Оракул.
И увидели.
Друг друга.
Первым был Дэмьен, и вот что он увидел:
…Сине-зеленое небо и белые листья, деревья, яблоки — в основном червивые, но этого никто не знает. Девочка под ними — маленькая, худая, неуклюжая — ха, неуклюжая, посмотрели бы вы на ее неуклюжесть потом, потом, через десять лет, когда она произвела фурор в школе Грипта Хедела: «Вы только посмотрите на эту девчонку! Вы когда-нибудь видели что-либо подобное?» Задумчивое покачивание головой: «Нет». Потом: «Хотя да. Но это было очень давно». Ха! Знали бы вы! Вот что с людьми делает ненависть, ненависть, ненависть…
…Мама! Мама, Миледи Мамочка! Мне больно-о-о! Я не хочу терпеть, не должна терпеть, ты лгала, ты низкая подлая лгунья, взрослые не знают, как надо! — кричит, захлебываясь слезами, эта девочка, размазывая слезы но худому лицу. Огненные кудряшки растрепались, разметались по сутулым плечикам, некрасивый крупный рот перекошен в сварливо-испуганном крике, смытая, застиранная и спрятанная кровь на белоснежном передничке («Тсс, малышка, это наш секрет»), а глаза — такие, как сейчас, как тогда, как всегда. Глаза не девочки и не старухи, глаза женщины, не хотевшей ею становиться, глаза существа, проснувшегося слишком рано, и не так, как ему надлежало проснуться… Зверь, зверь, зверь во мне! уходи, не сейчас, не так! отдай мне мою честь, верни мою боль, она моя, моя!!! Зверь смеется, ухмыляется, отворачивается, у зверя растут волосы, он отворачивается и играет рыжей косой. Быстро растут волосы у зверя, — а это всё ненависть, ненависть, ненависть…
Девочка с косой, которая еще не коса, стоит на коленях под полной луной и воет. Молча, сцепив зубы, — крик уходит внутрь, вглубь, в самые недра мозга, тела, души — «ННННЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!» Лицо двенадцатилетней женщины, двенадцатилетнего зверя, — а она не хотела, не должна была становиться так рано ни женщиной, ни зверем. Но ее не спросили. Сделали — женщиной и зверем. «ННЕЕЕЕТ!» И потом: ненавижу, ненавижу, ненавижу…
И вот она опять, пьяная, злая, рвет косу, сжимает пряди в потной ладони, теребит рукоять меча. Слушает музыку — тонкую, легкую, душную, как сизый дым умирающего костра: песню о мосте через снег в Вейнтгейме. Пусто. Холодно. Пустой и холодный зверь в пустой и холодной женщине, которая когда-то была девочкой под сине-зеленым небом, которая ею и оставалась… которая снова разрешила бы себе ею стать, если бы совершила ритуал, на который обрекла саму себя, которым прокляла саму себя. Если бы восстановила поруганную честь. Если бы отомстила. Но она сидит, и пьет, и теребит свою рыжую девственность: некому мстить. Уже, уже. Отомстили. Без меня. Вырвали честь из рук, мясо из пасти — отняли право вернуть самой. Отнял. Ты. Ненавижу тебя. Всё у меня было, всё отняли, всё я могла вернуть — я знала, я придумала как. А ты отнял и это. Всё отнял, как и мои милые любимые братики. Всё, всё. И единственное, что мне осталось, — то, о чем ты не знал, о чем не мог знать: ненависть, ненависть, ненависть…… Ненависть, ненависть, ненависть…