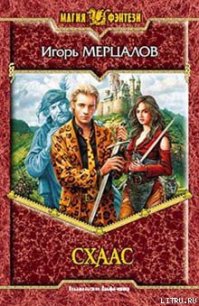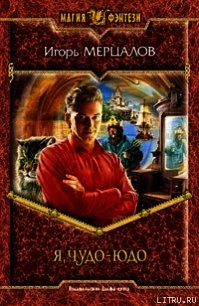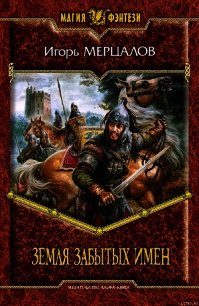За несколько стаканов крови - Мерцалов Игорь (читаем бесплатно книги полностью .TXT) 📗
— Куда не ходить? Почему?
— Прошу вас, поменьше соприкасайтесь с действительностью. Не теряйте своего душевного настроя!
— Какого еще настроя, о чем вы?
— Позвольте объяснить, сударь. Перед вами существо глубоко несчастное, вечно голодное, потому как судьба по великим грехам моим определила мне питаться только чувствами нежными, хрупкими, сугубо романтическими. А для фантома это… вечное недоедание. И вот впервые вами так напитан, так напитан…
— Когда это вы успели мной напитаться?
— А нынче днем, когда вы бессонницей пострадать изволили, — доверчиво улыбнулся призрак.
— Что-то вы темните, — усомнился Персефоний. — Не помню я в себе никаких романтических чувств.
— А это потому, что вы как бы в забытьи пребывали, — охотно объяснил фантом. — Между тем чувства ваши были очень похожи на те, которые дневной житель, человек, скажем, испытывает ночью. То есть не тогда, когда из-за работы не до сна, а просто так — не спится, и все… Хорошо еще, чтобы ветер в листве, или дождик, или чтобы луна и облака вокруг такие… — Он попытался показать на пальцах, какие именно. — И мысли в голову идут — не о сиюминутном, а о самом важном…
— Так вы за мной подглядывали? — упрекнул Персефоний, впрочем, без особого осуждения. Вот только ясно, что призрак что-то скрывает. — Вам это господин Воевода приказал?
— Да в общем-то никак нет… — смутился фантом. — Хотя отчасти — так точно. Оне сказали: у них — то есть у вас — теперь перед отъездом чувствительность сделается, так ты покрутись рядом… В качестве награды, значит. А у вас лучше, чем просто чувствительность! — радостно заявил он. — У вас такое… какого я уже лет не помню сколько не едал! Другие-то все больше о себе да про себя…
— А я о ком? Уж извините, только мне кажется, вы обманываете, — сердясь, сказал Персефоний. — Зачем вам, чтобы я на парад не ходил, при чем тут чувства? Это ведь распоряжение Воеводы, так?
— Нет, это я сам! Хотя господин Воевода тоже бы сказал вам не ходить. Но я сам — вы ведь там глубокое чувство потерять можете, если увидите… — Он осекся.
— Что увижу? Или — кого? — нахмурившись, спросил Персефоний и вдруг понял. — Тучко? Бригадир Тучко где-то там? А ну, говорите толком, иначе…
Он сжал кулаки, и фантом невольно отпрянул: напитавшись силой чужих эмоций, он приобрел некоторую материальность и теперь был открыт для физических воздействий. Не в полной мере, конечно, но лицо молодого упыря стало вдруг таким жестким, что и неполная мера представилась более чем избыточной.
— Да, там он, — прошептал призрак. — Там. И если вы его увидите, у вас… отношение изменится. А мне бы этого так не хотелось… Поедемте лучше на вокзал, сударь! Я бы вас проводил…
— Что вы опять про чувства? Ведь врете! Я про Тучко и не думал.
— Думали-с! Сами себе не сознавались, а думали-с. Иначе я и не питался бы вами. Настоящий романтизм, он, знаете, только тогда и бывает, когда не за себя, а за других душа болит. А когда за себя — это так, позерство, самого себя жаление. Нет, сударь, вы про друга своего думали.
— Да что б вы понимали! Разве он мне друг?
— Когда про другого все время думают, даже не замечая этого, как еще назвать?
Персефоний вздохнул и, обогнув призрака, зашагал дальше.
— Не ходите, сударь, — чуть не плача, просил тот, плетясь следом. — Такое чувство тонкое, невесомое — может, никогда в жизни уже не будет подобного.
— Дурень вы, романтик, — бросил упырь через плечо, стыдясь своей грубости. — Сразу видно, что чувства для вас — еда. По-вашему, они для того существуют, чтобы сидеть и переваривать их? Не путайтесь под ногами!
Он прошел через дворы, запущенные и забитые разнородным хламом, миновал переулок и очутился в уютном скверике, в котором любили бывать студенты — то шумными толпами, то парочками. Все скамейки и клены тут были изрезаны инициалами и неумело составленными формулами любви. Правее темнела громада университета, а уже за ним гудела Гульбинка.
Красивейшая улица города! Кто был в Лионеберге, тот видел ее — чаще даже Лионеберге не видят, а Гульбинку знают лучше местных. Вся улица — цепочка площадей, образованных широкими подъездами к учреждениям. Здесь суровая готика смягчена, сглажена, оживлена солнечной красотой восточного мира — таковы университет и Рада, таков отчасти многократно перестраивавшийся Собор. Еще тут есть Гостиный Ряд — бревенчатый, врытый в холмы, стоптавшиеся за века, и есть Старый Замок — угрюмый рыцарский бастион.
Снизу, от Рыночной площади, текла к Раде народная река. Персефоний, вынырнувший на Гульбинку близко к началу, сразу оказался намертво зажат между горожанами, течение подхватило его и понесло.
— Ух, сейчас будет! — говорилось вокруг на разные лады. — Ох, будет сейчас…
— А главное — зачем? — басил кто-то.
— Главное — на чьи деньги? — тонко возмущался другой. — На наши, на кровные!
— Да ведь опять ничего не выйдет! — сокрушался бас.
Но в основном настрой был оптимистичный.
— Уж теперь-то мы им покажем! Все, отгуляли свое предатели, нажировались — теперь-то мы…
И еще какой-то мелко дребезжащий, по-комариному въедливый, время от времени ввинчивал в гул голосов гордое:
— Там мой сын! Вот как семимильники пойдут — левый крайний в переднем ряду он и будет.
Ближе, ближе, вот уже нависла златостенная Рада с синими изразцами, но тут была единственная сила, способная бороться с народным морем, — полицейские кордоны. Персефония отнесло на противоположную сторону площади, к другому желтому дому — мэрии.
— Во-он оттуда они пойдут, родимые, соколики. Сын мой там, семимильник…
— Эй, да там уже вовсю… Опоздали! Тихо, тихо! Дайте послушать!
— …за измену родине, за предательство ультраправого дела национального освобождения Накручины…
— Не они там, нет? Левофланговый — мой…
— Да помолчи ты, старик! И вообще, молись, чтобы он среди этих не оказался, ни на фланге, ни по центру…
Все яснее слышался грозный голос:
— …за стяжательство, за мародерство, за укрывание незаконных доходов и прочие преступления, — голос зазвенел, взяв на тон выше, — бывший бригадир Цыпко Кандалий Оковьевич приговаривается к смертной казни!
Толпа взорвалась одобрительными криками. Персефоний перевел дух и про себя поправил говорившего: «Цепко, а не Цыпко. Цепко Кандалий Оковьевич. Он тогда со станции сбежал — с той самой, где Хмурий Несмеянович свое сокровище взял».
Когда прозвучало «бывший бригадир», молодой упырь был почему-то уверен, что услышит имя Тучко.
Над морем голов вздымался эшафот, словно коварный риф, приоткрытый отливом. По углам его стояли жандармы, с краев темнели плахи, а в середине поскрипывала шибеница на три петли. В одной уже кто-то висел.
Подле левой плахи стоял палач в черном балахоне. Конвоиры подвели низкорослого человека, стянутого веревками, бросили его на колени. Бывший бригадир казался то ли больным, то ли пьяным, он ничего не говорил, только медленно переводил пустой взгляд с одного лица на другое.
Священник-униат быстро прочел молитву, сверкнул в свете бесчисленных факелов топор, и с глухим стуком покатилась по неструганым доскам голова борца за суверенитет.
— Правосудие свершилось! — грянул все тот же голос. Он доносился с балкона Рады, на котором стояли в ряд правители графства со свитами. Говорил верховный судья Кохлунда, подозрительно молодой человек в красной мантии и с розовым платком на шее.
От ликующих криков заложило уши.
— Решением справедливого суда от вчерашнего дня, сего месяца, сего года: за многочисленные преступления против Накручины, графства Кохлунд и уголовного кодекса… — возобновил судья чтение, пока помощники палача оттаскивали тело.
Так это и есть торжественный митинг? Персефонию стало тошно, и он действительно пожалел, что пришел.
Против ожидания, с казнями управились быстро и четко. Пока гремел голос судьи, освобождалось место на плахе, подводили нового преступника, а с последними словами приговора над осужденным простирал руки священник, и, едва он произносил «аминь», палач поднимал топор или выбивал скамейку из-под ног.