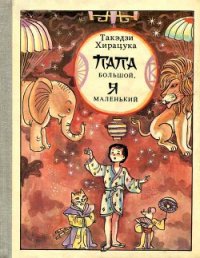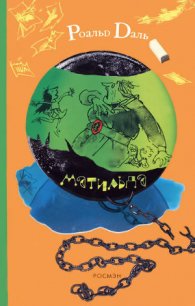Маленький, большой - Краули (Кроули) Джон (читать книги бесплатно .txt) 📗
— Это интересно? — спросил он. — Иметь Судьбу?
— Не очень, — Сильвия снова обхватила себя за плечи, хотя огонь очага уже хорошо прогрел небольшое помещение. — Когда я была маленькой, меня этим дразнили все кому не лень. Кроме бабушки. Но она не смолчала — рассказывала каждому встречному-поперечному. Негра тоже. А я была всего лишь тот же маленький непослушный заморыш; даже удивительно, как не начала задирать нос. — Она смущенно заерзала на постели и покрутила на пальце свое серебряное колечко. — Сильвию ожидает великая Судьба. От шуток проходу не было. Однажды, — Сильвия отвела взгляд, — к нам явился настоящий старый цыган. Мами не хотела его впускать, но если ему верить, он, чтобы повидать меня, пришел аж из Бруклина. Ему открыли. Он был сутулый, потный, толстый как бочка. Говорил на эдаком смешном испанском. Меня привели и показали. Я ела крылышко цыпленка. Цыган долго на меня таращился с открытым ртом. Потом — удивительное дело — опустился на колени (это заняло немало времени) и говорит; «Помяни меня, когда придешь в царство свое». И дал мне вот это. — Сильвия подняла ладонь (рисунок линий на ней был ясный и четкий) и повернула серебряное колечко, показывая его с той и другой стороны. — Нам всем пришлось его поднимать.
— А затем?
— Он вернулся в Бруклин. — Сильвия примолкла, вспоминая старого цыгана. — Мне он не понравился. — Она рассмеялась. — И когда он уходил, я сунула ему в карман куриное крылышко. В карман куртки. В обмен на колечко.
— Он тебя окольцевал, а ты его окрылила.
— Да. — Сильвия засмеялась, но тут же умолкла. Казалось, ею снова овладело мучительное беспокойство. Переменчива: душа ее капризней, чем у большинства людей, бурная и ясная погода чередуются в ней с быстротой молнии. — Такой обмен подарками. Ну, бог с ним. — Она проворно сделала большой глоток, быстро выдохнула и помахала рукой перед раскрытым ртом, чтобы остудить язык. Отдала чашку Оберону и глубже забралась под покрывала. — Что от этого толку. Я даже сама о себе позаботиться не умею. Самый бестолковый человек на свете.
Голос Сильвии затих; она отвернулась и словно бы попыталась исчезнуть: потом повернулась обратно и широко зевнула. Оберон разглядел внутренности ее рта: выгнутый язык и даже язычок. Их цвет был не бледно-розовый, как у белых людей, а сочнее, с оттенком коралла. Он задумался…
— Этому ребенку, наверное, повезло, — продолжила Сильвия. — Без меня ему будет лучше.
— Вот уж не поверю. Вы так хорошо ладили.
Она молчала, всматриваясь в свои мысли.
— Мне хочется, — начала она, но не прибавила ни слова. Оберону хотелось придумать для нее какой-нибудь подарок. В придачу ко всему миру.
— Ты можешь жить здесь сколько угодно, — проговорил он. — Сколько тебе будет угодно.
Внезапно Сильвия откинула покрывала и рванулась к краю постели. У Оберона возникло дикое желание схватить ее и задержать. «Пи-пи», — пояснила она. Перебравшись через его ноги, Сильвия спустилась на пол и распахнула дверь туалета (которая упиралась в край кровати, оставляя только щель, чтобы пройти) и включила там свет.
Оберону было слышно, как она расстегнула молнию.
— Ой! Сиденье просто ледяное! — После паузы послышались глухие звуки бившей в унитаз струи. Когда они смолкли, Сильвия сказала: — Ты милый мальчик, тебе это известно? — Оберон не нашел ответа, да и любые слова потонули бы в реве воды, низвергшейся из бачка.
Приготовление общей постели сопровождалось дружным смехом (Оберон предложил в шутку поместить в середине обнаженный меч, и Сильвия, никогда не слышавшая об этом обычае, очень развеселилась), но когда локомотив был остановлен и воцарилась темнота, с дальнего края кровати, отведенного для Сильвии, донеслись негромкие всхлипывания.
Оберон думал, что никто из них не сможет уснуть, но после долгих поисков, сначала на одном боку, потом на другом, когда Сильвия несколько раз тихонько поплакала, напуганная собственными мыслями, ей открылись наконец врата из рога; слезы высохли на ее черных ресницах, и она задремала. Ворочаясь, она перетянула на себя одеяла, а Оберон не осмеливался вернуть себе хотя бы часть, опасаясь ее потревожить (он не знал, что раз уж она перешла грань, то несколько часов будет спать как убитая). Вместо ночной рубашки Сильвия надела футболку — сувенир для детей туристов (на ней красовались яркие аляповатые рисунки — четыре или пять городских достопримечательностей), а в дополнение — всего лишь пару крохотных трусиков из черного шелка на эластике. Прислушиваясь к ее все более размеренному дыханию, он пролежал без сна не один час. Ненадолго он заснул и видел сон о том, что ее детская футболка, и большое горе, и защитный покров из сбитых одеял, и подчеркнуто сексуальное нижнее белье складываются в некий ребус. Он засмеялся во сне, поняв незамысловатую игру слов, заключенную в этих предметах, и общую разгадку, удивительную при всей своей очевидности, и от собственного смеха пробудился.
Его рука скользнула под одеялом и накрыла Сильвию так осторожно, как прокрадывалась в постель какая-нибудь из кошек Дейли Элис, стараясь пристроиться в тепле и не потревожить спящего. Настороженный, он долго лежал неподвижно. Снова наполовину задремал, чувствуя, что рука, касавшаяся соседки, постепенно превращается в золото. Проснувшись, обнаружил, что рука занемела и сделалась тяжелой как камень. Он убрал ее. Под кожей закололи иголки, и Оберон принялся поглаживать руку, забыв, почему придает такую важность именно этой, а не другой. Опять заснул. Опять проснулся. Соседка по постели сделалась очень тяжелой, давила на свой край кровати как драгоценный груз. Компактность удваивала ценность этого груза, а бессознательность — утраивала.
Когда наконец Оберон заснул по-настоящему, он увидел сон не о Ветхозаветной Ферме, а о раннем детстве, Эджвуде и Лайлак.
Глава третья
Та мысль, та прелесть, та черта, то чудо, Которые не воплотить в словах.
Дом, где рос Оберон, отличался от того, где выросла его мать. Когда он перешел в руки Смоки и Дейли Элис, естественных управителей хозяйства, включавшего в себя их детей и родителей Элис, вожжи оказались несколько ослаблены. В отличие от своей матери, Дейли Элис любила кошек, и, пока взрослел Оберон, их поголовье в доме росло в геометрической прогрессии. Они собирались группами у каминов, их шерсть летала в воздухе и вечно покрывала мебель и ковры сухим подобием изморози; их невозмутимые бесовские мордочки глядели на Оберона из самых неожиданных мест. Одна была тигрового рисунка, с полосками на лбу подобие насупленных бровей, две или три — черных, одна, белая с черными пятнами как простых, так и сложных очертаний, напоминала полинявшую шахматную доску. Холодными ночами Оберон пробуждался от тесноты и, путаясь в одеялах, отодвигал в сторону двух-трех свернувшихся в плотный клубок кошек, которые блаженствовали в его постели.
Кроме кошек, в доме жил песик Спарк. Он был потомком длинной линии собак, которых (так утверждал Смоки) можно было принять за внебрачных отпрысков Бастера Китона: благодаря светлым пятнам над глазами его длинноносая морда носила выражение легкого упрека и крайней настороженности. Будучи уже древним старцем, Спарк оплодотворил свою родственницу, которая гостила в доме, и породил трех безымянных собак и еще одного Спарка. Обеспечив таким образом продолжение рода, он на весь остаток жизни свернулся в любимом кресле доктора у очага.
Но не только животные (Док выражался на этот счет достаточно ясно, ни словом не упоминая о своей нелюбви к домашним питомцам) были виной тому, что Док и Мам оказались отодвинуты в сторону. Ни достоинства, ни формального положения они не лишились, однако их как бы уносили в прошлое стремительные волны игрушек, крошек от печенья, птичьих гнезд, пеленок, лейкопластырей и двухъярусных кроватей. Мам, с тех пор как ее дочь тоже стала матерью, получила прозвище Мам Дринкуотер, или Мам Ди, или Мамди, и не могла отделаться от мысли, что ее, после долгих лет безупречной работы в парадных помещениях, пинком отправили в верхний этаж. И как-то за эти годы многие часы в доме начали звонить не вовремя, хотя Док (обычно в сопровождении одного-двух детишек, жавшихся к его ногам) систематически их регулировал и чинил.