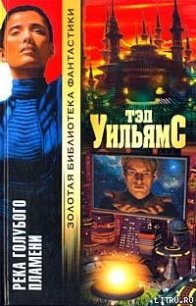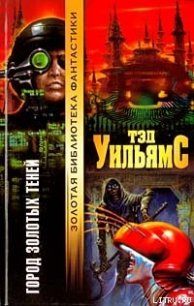Чужестранец - Семенов Алексей (читать полную версию книги txt) 📗
И вот наконец стремление к переменам, словно тоска не умеющей летать птицы, обретало теперь зримое воплощение. Правда, опаска не уходила, и Мирко ухватился за нее, как за траву над обрывом, – авось выдержит!
– Не бывать греху, уй-батюшка. Не держу я ни на кого злого умысла. Да и не умею я ничего, чтобы уходить: ни ремеслу толком не обучен, ни говорить по-иноземному. Ратному искусству тоже вот не сподобился.
– Не казнись, тебе говорят! – строго прервал его дядя. – Уж мне поверь, бездельников на своем веку я навидался. Ты – не им чета. Кто на земле работать умеет, тот не пропадет. На Вольных Полях землицы вдоволь, а трудиться-пачкаться нынче не всякий полянин станет. Города ведь строятся, народ под сильную княжью руку подался. Вот и смекай. А что до дела ратного… – Дядя, вспомнив, видно, что-то давнее и не шибко веселое, горько покривил губы. – К этому не стремись. Негодное это ремесло.
Кому именно неугодно было воинское умение, которое всегда уважалось даже в мирных Мякищах, Мирко не понял.
– А как себя защитить, если лихой человек подступит, – продолжал дядя Неупокой, грозно сверкнув оком, – этому я тебя быстро выучу, наука не больно-то хитра. Я, когда таким же был… – И тут он пустился в туманное странствие по воспоминаниям своей сверкающей оружием молодости.
Мирко пытался слушать внимательно, как и полагается, если старший ведет речь, но кроме железного скрежета, жужжания летящей стрелы да богатырского клича в памяти у него ничего от сего повествования не сохранилось.
Улетучились, сгорели единым сполохом все сомнения и переживания, которыми мучился Мирко столько времени. Еще минуту назад казалось, что текло это время очень долго, но сейчас он понял: минуло всего ничего, даже если сравнивать с его возрастом. На душе вдруг стало чисто и пусто, точно на большом озере, где только что исчез лед: лесные берега еще укрыты последним снегом, а седые облака идут молча в суровой вышине, никого не зовя с собой.
Мирко глянул в черно-лиловое небо ночи. Там было просторно и звездно. Горячими участливыми глазами незнаемых душ смотрели на мир светила с горних полей. И лишь одно-единственное туманное облачко, задумчиво и медленно направлялось в сторону юга.
«Вот оно, – подумал Мирко. – Да мыслимо ли избрать иной путь? На севере – пустошь; на закат, за Камнем, – и вовсе чужие люди; на восходе – море. А к югу уж немало народу из Мякищей ушло. И лес на юге – Четь Великая, там ведь тоже живут. Выстрою, если что, избу в лесу, один буду жить. Лес добрый, сгинуть не даст».
Дядя тем временем вроде бы закончил свой рассказ о тяжелом ратном труде, и Мирко, поняв, что отныне может говорить просто, не скрываясь, спросил:
– Дядя Неупокой, скажи на милость, почему все люди как люди, а иной – вот я, к примеру, – как не отселе? А ведь из одной деревни.
– Все мы не отселе, – отвечал дядя, укладываясь на спину и глядя в небо. – Видишь ли, Мирко, в каждого народившегося человека вкладывает Бог частицу своего огня, искру малую. Только это она по Божьей мерке невелика, а у людей – для всех разная. А жизнь – как ветер: иной огонек задует, как лучину, и нет его; из другого пожар распалит на весь лес; если костер горит, то либо поддержит, либо заставит прогореть в единый миг да опасть. И коли много соберется таких искр, ровно горящих в одном месте, быть огню добру, а коли одна искра среди пепла – погибнет, истлеет попусту. Вот и тебе не сыскать здесь ни пары, ни даже сопутников. Такие, как я, не в счет, мы свое отжили.
– Разве во мне огня больше? Вот уж не гадал! – удивился Мирко. Уж он-то считал себя ничем не лучше других – напротив, уродом в своей семье.
– Может, и не больше, – согласился дядя, – только горит он иначе. Я, – продолжил он раздумчиво, – вижу, как ветер этот стал меняться – жизнь то есть, – и неладно мне. Вроде все как и было, но лезет исподволь из мякшинского человека наружу такая погань, про которую раньше и не слыхивали. Она, погань эта, в любом сидит – еще до земного начала в мир пробралась. А сейчас ползет с севера, как марево какое, – словом-то и не выскажешь! – В голосе дяди послышалась досада, а Мирко словно банник кипятком ошпарил.
– Вот это да! – воскликнул он. – Я уж думал, мне одному померещилось! Веральден-оленник, правда, зимой говорил что-то такое про тень на севере, «Ротой» ее называл.
– Видишь, – молвил дядя, – ты и сам уразумел, что к чему. Потому и не живется тебе в Холминках, и маета на сердце, что не коснулось тебя это. – Он пошевелил неопределенно пальцами. – Тебя, да и многих еще, слава богу. Только ты это понял, а они – нет. У нас в Холминках помимо тебя таких, верно, и нет больше – тех, кто понимает. А Веральден не просто чует, как мы с тобой, он знает, да из него лишнего слова не вытянешь. Страшится старик, запрет переступить не смеет. Ну, да все это пока пустые речи – гадать про то, что сокрыто. Речь как раз о тебе: покуда не запутался совсем, не замутило маревом колдовским, – уходи скорее. Не след молодому пропадать. Что проку без разума спорить с тем, с чем и боги не всегда справляются. Найди края, где тебе приветно будет, а далее и сам уяснишь, с чем домой воротиться. И когда, – прибавил он.
Мирко готов был и дальше так ночь напролет все говорить, но дядя Неупокой, видать, счел, что сказано и без того изрядно.
– А теперь спать иди. В сено, вон, заройся. Стожок сена стоял тут же. Дядя нарочно привез его сюда на телеге – греться, если ночь случится холоднее обыкновенного.
– О деле по ночам разговоров не ведут, а нечисть всякую только помяни – сама тут как тут на порог явится. Нам и так забот хватает.
– А ты как же? – спросил на всякий случай Мирко. Спать ему хотелось, пожалуй, не меньше, чем вести беседы.
– Не надейся, всю ночь спать не дам, – «успокоил» его дядя. – Сейчас вот звезды посчитаю, а как надоест, тебя подниму. До света станешь сторожить.
Мирко забрал свою вотолу, рогожу и стал устраиваться на ночлег. Сон пришел скоро, и снилось ему что-то хорошее, но что именно, Мирко так никогда и не вспомнил после того, как дядя тронул его за плечо. Пора было заступать в дозор.
Переждав самую сильную полуденную жару, Мирко ополоснул лицо водою, скопившейся в углублении гранитного валуна, и двинулся дальше.
Сердце молодое не способно долго печалиться, и Мирко, не забывая внимательно следить за болотом, стал размышлять о том, как это он выйдет к Хойре и увидит, вправду ли столь велика эта река. Как пойдет вниз по течению и будет встречать разных людей, как они станут смотреть на него немного с завистью: дескать, вот ведь, идет себе человек и не страшится неизвестности, живущей вдалеке от дома, и сколько еще у него впереди! А дома так уютно, надежно и так… скучно. А может, он останется в какой-нибудь приречной деревеньке, чтобы каждый день ходить смотреть на реку. Вид текущей воды – особенно большой воды – всегда нравился Мирко: он и умиротворял, и будил новые, занятные мысли и ощущения. Дома оставалась желто-песчаная Плава, и на ее невысоких берегах росли белоствольные березы и ивы.
Но Плава была своя, знакомая, и текла она известно куда, в отличие от Хойры, таинственной и великой от самого истока в предгорьях, где, говорят, живут самые древние племена то ли хиитола, то ли еще какого старого народа – сплошь все колдуны да кудесники, – до далекого устья. Собственно, о том, куда впадает Хойра, и впадает ли куда вообще, Мирко имел понятие весьма смутное. А еще можно поселиться в Великой Чети – Да хоть вот здесь же, на болотной островине, – и поразведать, что это за малый народ обитает в самой топи. А можно и вперед пойти, вслед за рекой, до самого Устья. Зачем? Это тоже не было ясно, но ведь непременно отыщется в таком необычайном странствии нечто прекрасное. При этом Мирко хорошо понимал, что сегодня большого выбора у него нет: или найти в Чети селение полешуков – они хоть и не слишком обрадуются пришлому, но собрату-мякше в зимовке не откажут, да и Мирко не бесполезный для лесного села человек, – или добраться до богатых Вольных Полей, а там уж как судьба положит.