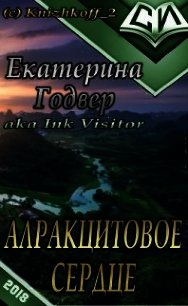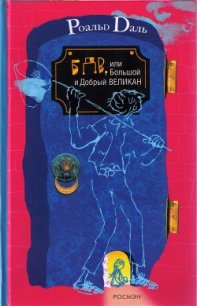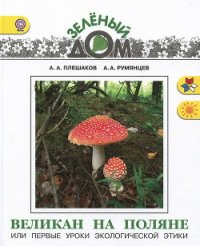Алракцитовое сердце. Том I (СИ) - Годвер Екатерина (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений TXT) 📗
– Если есть за мной вина – простите, родные. Что теперь? Сделанного назад не воротишь, – подвел черту этим разговорам Беон. Даже выглядел в тот момент он – крепкий, статный, способный выйти против медведя и убить его – точь-в-точь как сумасшедшая Вильма: таким же сгорбленным и старым. Винить его никто не винил, а о перевыборах старосты и слушать не хотели. Мертвых похоронили, и жизнь пошла своим чередом…
Мать пыталась крепиться, но за следующие полгода истаяла как свеча и теплым осенним утром погасла, пролежав перед тем ночь в лихорадке. Провожали ее в последний путь без обряда: в ту же ночь в Волковке скончался престарелый отец-настоятель Аверим.
– VII –
Родители и сумасшедшая Вильма лежали на погосте рядом; потому, бывая у родных, Деян обычно заходил прибраться и на могилу знахарки. Он был благодарен Вильме за доброту и участие, хоть и досадовал на невеликое ее мастерство; кроме всего, сжимала горло какая-то нелепая, детская обида на старуху. Эти чувства легко уживались в его сердце, равно как горечь от потери родных и злость на несчастливую судьбу, тяжелое увечье сплетались с радостным чувством жизни, осознанием того, что он по-прежнему дышит, говорит, ходит – хоть бы и на одной ноге.
«Столько лет ты прожила – неужели не могла еще год-другой обождать помирать? – думал он, неловко опершись на ограду и сгребая костылем листья. – Эх, старая, что ж так! Была бы жива – может, отца бы выходила, мать утешила…».
Почти все хозяйственные тяготы на первых порах легли на плечи старших братьев – но Мажел и Нарех справлялись. Жизнь продолжалась, время шло. За осенью следовала зима, за весной – лето.
Друзья Нареха привезли из города протез, Мажел подогнал ремни и подкладку. Деян кое-как научился ковылять на деревяшке, хотя по-прежнему сподручней было с костылем: очень уж временами кололо и жгло в культе. Беспокоила не только нога и фантомные боли в несуществующей ступне, подводило и подорванное неумелым старухиным лечением здоровье: порой без причины лихорадило, давило в груди, желудок отторгал пищу; к тяжелому труду он оказался неспособен… Иногда, когда с дороги приносили от торговцев шутейные книжицы, он зачитывал на общих сходах или соседских посиделках отрывки из них: к этим чтениям сводилась вся польза от грамоты в Орыжи. Деян плел корзины, починял одежду, силки и сети, стряпал, выполнял домашнюю бабью работу, и самой большой его гордостью было то, что он, десяток раз едва не разрубив себе здоровую ногу, наловчился-таки колоть дрова. Дураков учить его, увечного, сложным и тонким ремеслам не нашлось: учеников без него хватало – сыновей, племяшек, зятьев, – и слабый здоровьем калека везде был не ко двору. «Тебя учить – только силы зря тратить: а ну как завтра совсем захиреешь али помрешь?» – без стеснения сказал старый орыжский шорник; невежливо, зато честно.
Хотя на лицо Деян, как и никто из мужчин-Химжичей, уродом не был, и даже выглядел здоровее, чем был в действительности, увечье означало, кроме прочего, еще и почти неизбежное одиночество: в Спокоище всегда рождалось больше мужчин, чем женщин. Деян, понимая это, и сам на девиц не заглядывался.
Потом в Спокоище появился преподобный Терош Хадем: стало чуть веселее.
Как-то раз, крепко перебрав, священник дал волю любопытству и задал вопрос, беспокоивший его, должно быть, с самого знакомства:
– Скажи-ка честно, Деян. Вот ты просишь меня о городах и приятелях моих прежних рассказывать, о «большом мире», как вы его тут зовете, – просишь и просишь. Ну мне-то ладно: почему б не рассказать, раз просишь? Но какая тебе охота слушать – не пойму. Ты ведь… – Преподобный Терош скосил глаза под стол, зарделся, поняв, что разговор выходит бестактный. Но остановиться уже не мог. – Ты же, безбожник, в чудеса Господни не веришь, знаешь, что самому тебе ничего этого в жизни не видать. Только душу зазря тревожишь, раззадориваешь. Но просишь каждый раз. И почему? Это ж все равно, что… – он в последний момент прикусил язык, смутился окончательно и замолк.
Мажел взглянул на священника неодобрительно, а Нарех рассмеялся в густые усы:
– Все равно, что безногому на танцы ходить? Так он, бывает, и ходит.
Преподобный Терош поперхнулся хреновухой.
– Не смущай гостя, брат, – поспешил вмешаться Деян. – Ну, так оно все, и что такого? У меня ступни нет, а не глаз и ушей… Почему б не посмотреть и не послушать?
– Ну, и то верно: почему бы и нет, – со вздохом сказал священник, посчитав, видно, что Деян смысла его слов не уловил.
Но Деян вопрос понял: намеренно уклонился от ответа. Не знал, как объяснить и стоит ли.
Мысль о том, что он сам, братья, Орыжь, их глухой край – часть чего-то неизмеримо большего, удивительного и многообразного, заставляла ярче переживать всю горечь положения слабого здоровьем калеки: это священник подметил верно. Но вместе с тем она доставляла странное, необъяснимое наслаждение, как и картины чужого благополучия. Порой он завидовал, завидовал страшно, по-черному, в чем, конечно, стыдился признаться. Но легче было б признаться в этой зависти или даже потерять вторую ногу, чем отказаться от того, чтобы наблюдать, как жизнь – в ста шагах, в ста верстах – течет, точит камень…
Господин Фил Вуковский в «Науке о суждениях и рассуждениях» настаивал, что верное рассуждение – обязательно непротиворечиво, потому Деян подозревал в мыслях и чувствах своих какую-то ошибку, однако найти ее не мог и поделать сам с собой ничего не мог: так уж думалось и чувствовалось.
«Младший пострел умом не берет – зато силы невпроворот. Мал нахал, да удал», – добродушно посмеивался отец много лет назад, когда Деяну, тогда еще здоровому и крепкому мальчишке, случалось совершить какую-нибудь дурную проделку: в отличие от Нареха он всегда попадался. Деяну шутка обидной не казалась. Напротив, отрадно было думать, что мозгами ворочать и осторожничать предстоит старшим, а ему в жизни достанется что поинтереснее: но вышло все шиворот-навыворот. После увечья удаль и сила стали для Деяна чем-то вроде чародеев мы и парусных лодок на большой воде из сказок сумасшедшей Вильмы: настолько далеким, что и нереальным вовсе. Из всех случившихся несчастий иногда самым горьким казалось то, что отец умер, так и не придя в сознание, не сказав ни слова, не дав никакого напутствия…
Наставления преподобного Тероша и других доброхотов на душу не ложились, а братья не лезли, – за что Деян был им весьма благодарен.
Своим не предписанным пословицей умом он со временем дошел до мысли, что проку нет ни в сожалениях, ни в мечтах, ни в сказках, ни в чужой мудрости. Тягу к задушевным разговорам потерял, предпочитая наблюдать и слушать. Иногда с горькой улыбкой вспоминал бормотание сумасшедшей Вильмы: как можно «принять» или «не принять» судьбу, если твоя судьба и есть то, что есть ты и твоя жизнь?
За прошедшую со дня происшествия на Сердце-горе дюжину лет Деян Химжич превратился из мечтательного и проказливого мальчишки в угрюмого молодого мужчину себе на уме; свой тяжелый нрав он вполне осознавал, но нисколько его не стеснялся.
Переменилось многое.
Старые приятели, товарищи по играм, жили кто как: одни перессорились или позабыли друг друга и только здоровались мимоходом, другие – нет-нет да и поминали старое, поддерживали дружбу. В жизни хватало всякого, и дурного, и хорошего, и нелепого – как поездка с братьями в волковскую «ресторацию», которая завершилась лихой попойкой и ночью в стогу с рябой болтливой девкой, известной на все Спокоище любительницей гульнуть, пока муж в той же «ресторации» упивается до беспамятства. Огорчать Нареха объяснением, что не стоило брать на себя труд это все подстраивать, Деян не стал, но впредь к его затеям решил относиться с осторожностью. Рябой болтушке Деян был благодарен, и спаться с тех пор стало чуть спокойнее, однако от воспоминаний о волковском загуле делалось муторно на душе и отчего-то хотелось умыться ледяной, прозрачно-чистой колодезной водой: вылить на себя сразу целое ведро.