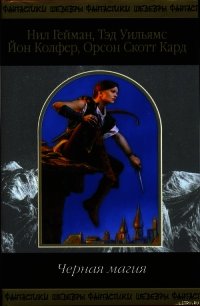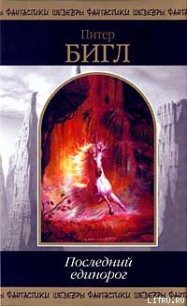Песня трактирщика - Бигл Питер Сойер (книга жизни TXT) 📗
Но Лукасса вскрикивает: «Моя лисичка!», и эти два слова помимо моей воли пронзают меня, точно холодным железом. «Лисичка, лисичка!», — и она бросает грига-ата и бежит ко мне, падает на колени, тянется ко мне через все нигде. Не девчонка, а стихийное бедствие: она и плачет, и смеется от страха, усталости, радости, безумия, невежества и любви. И ради этого я бросил человечий облик? Голубочки, будьте так добры, съешьте меня!
Грига-ат нависает над нами, сам как полыхающее белое небо. Лукасса, дура, отпусти меня! Но слов-то нет. Приходится укусить ее за руку — сильно, больно. Вскрикивает, отпускает, смотрит обиженно — что ж, извини. Медленно отступает. Помнит ли он нас хоть немного, старый волшебник, что сидит в грига-ате? Нет. Холодные зеленые глаза сочатся сквозь пламя, он тянет руки, чтобы подобрать нас, поглотить нас обоих, бросить в топку, которая у него вместо сердца. Он может. Если бы я по-прежнему умел принимать человечий облик, он и тогда мог бы.
Остался один путь. Один-единственный.
Когда же это было-то? Давным-давно. Даже злой волшебник еще не родился, когда я в последний раз ходил в своем истинном обличье. Нужды не было, и проку с него никакого, а неприятностей уйма. Сойдет и лис. А там, где не сойдет лис, сойдет человечий облик. Ну, а теперь ничего не поделаешь. Старому ничто это не понравится. Но старого ничто тут нет. Ничего не поделаешь.
Лукасса снова обвивает меня руками, не боясь, что укушу. Дрожит, трепещет, сжимает слишком сильно, пытается спрятать меня от грига-ата. Не девчонка, а стихийное бедствие. Я заглядываю ей в глаза — отпусти, Лукасса, мне не следует менять облик в твоих объятиях, правда, не следует, уж поверь. Друг. Друг мой. Отпусти меня.
И она смотрит мне прямо в глаза — и отпускает. Рука грига-ата вцепляется в нее. Я роюсь в глубине, бужу свое «я» — в глубине, где оно спит, нет ни забот, ни обликов, ни даже старого ничто. Мое «я». Извини, что разбудил. Как спалось? Ты мне нужно, мое «я».
Понятия не имею, как я выгляжу, — но я вижу, как изменились глаза Лукассы. Когда ее схватил грига-ат, она даже не вскрикнула, не пыталась отбиваться — а теперь такой ужас, такое разочарование, будто ее предали. Было бы даже обидно, только я не умею обижаться. Что, Лукасса, неужели это так страшно? Ты меня не видишь? Неужели в этой древней твари не осталось и следов твоего лиса? А вот я бы тебя узнал.
Грига-ат отступает, держа Лукассу между нами, точно фонарь. Решает — бояться, не бояться? Теперь моя очередь тянуть руки — руки у меня длинные, серые, очерченные сияющей каймой. Морщинистые пальцы растопырены. Я говорю:
— Отпусти ее!
Голос у меня серый и тяжкий, как молот. Лукасса закрывает лицо, зажимает уши.
— Отпусти ее!
Во мне встает воспоминание. Водой и небом был этот мир, когда явился я — вода, небо, громадные деревья и старое ничто. Лисы были — много лис, — но людей не было, а потому и грига-атов тоже. И магов тоже не было, ни единого — всех этих волшебников, которые пытаются быть богами, демонами и обычными людьми зараз. Были еще создания вроде меня, и другие тоже, в воде, в лесах. Лис забывает, человечий облик забывает. Я помню.
Грига-ат что-то вспоминает. Медленно отпускает Лукассу. Лукасса смотрит вперед, назад — кто страшнее? Я говорю: «Лукасса, ко мне», но она не может вынести звуков моего голоса. Двигаюсь к ней, протягиваю руку, она шарахается прочь, теперь позади меня. Хорошо. Грига-ат шипит, жутко ухмыляется, все никак не может решиться. Я заговариваю с ним на Изначальном Наречии, которого ни лис, ни человечий облик никогда не знали. Я говорю ему:
— Узри меня и скройся. Сухие ветки, палая листва, что бы тебя ни ждало, — убирайся туда.
И поворачиваюсь к нему спиной.
Мое дело сделано. Остается отвести Лукассу домой, в ее мир. От этого мира его отделяет лишь тонкая шкура — нет, даже меньше, всего лишь шорох, — но эту грань могут перейти только мертвецы, безумцы и лис. Лукасса не безумна — значит… Должно быть, это тоже натворил старый волшебник. Ах, как же я не разглядел? Дурень, дурень! Лукасса, бедняжка…
В последний раз оглядываюсь назад. Грига-ат скорчился. Не двигается. Больше не нападет. Огонь под покровом текучей, ползучей тьмы слабеет — грига-ату не удалось пожрать нас, и теперь тьма всасывает его, вбирает в себя. И поделом тебе, злой волшебник. Нечего было будить мертвецов, чтобы они тебе поклонялись. Это постыдно даже для мага. Ты всегда был тем, чем стал теперь. Будет только справедливо бросить тебя здесь. И я с радостью это сделаю.
Но Лукасса не уходит.
Четыре шага вправо, за угол и вниз, проще простого. Но она не идет. Все еще боится. Придется гнать ее вперед, воспользоваться страхом — времени нет, и выбора тоже. Она шарахается от меня, мечется туда-сюда, глупая и упрямая, как курица. Все пытается вернуться к грига-ату. Нет, это безумие! Что же еще? Я приказываю ей остановиться, идти со мной, но от моего голоса она совсем шалеет. Она спряталась бы за грига-атом, если бы посмела. Она говорит:
— Я пришла за ним.
Вот всегда так! Всегда! Свяжешься с этими людьми, размякнешь — и пожалуйста. Зачем было говорить себе, будто ты не знаешь того, что знаешь? Она готова пройти через тебя насквозь — через тебя, через грига-ата, ей все равно — и все ради этого злого, пропащего старикашки. Живая или мертвая — она дура до мозга костей! И тебе тоже поделом, глупый лис! Я глупо хватаю ее — отнести ее на место, и покончить со всем этим. Она выворачивается:
— Нет, нет, я пришла за ним! Лисичка, ты где? Лисичка, помоги!
Смотрит на меня и плачет.
Ну что, втиснуться обратно в лисий облик, чтобы она успокоилась? Но теперь я сделался таким же дураком, как она. Это все из-за людей. Опять… Ничего не поделаешь. Я оборачиваюсь к грига-ату, медленно и внятно говорю:
— Ну что ж, идем. Идем с нами.
Никогда больше! Ни за что! Старое ничто, наверно, лопнет со смеху!
— Идем с нами.
Грига-ат делает шаг. Лукасса ахает. Еще шаг. Снова ахает. Грига-ат останавливается, смотрит на нас. Глаза, как зеленый пепел. Не зная нас, может ли оно знать, кто это? Может ли оно выбирать — тот мир, этот?
— Ну, пошли, пошли.
Горячий синий оскал. Еще шаг. Лукасса хлопает в ладоши, поет от радости. Ни за что на свете!
— Пошли.
РОССЕТ
Вот тут у меня получилась дырка в памяти. Ветер помню, помню ужасающий, невероятный грохот, крики в коридоре, помню, как «Серп и тесак» дрожал крупной дрожью, точно испуганная лошадь. Помню, как, держась за руку Лал, шел вместе с ней и с Соукьяном в черноту на месте стены, в черноту, которая очень любезно пригласила нас в себя. Она нам всякие картинки показывала, эта чернота. Картинок не помню, но помню, что шел туда вполне охотно. Это я помню так же хорошо, как грига-ата.
А потом — пустота. Нет, даже не пустота, не дырка, а как будто время вдруг икнуло, раз — и нету. Следующее, что я вижу, без малейшего разрыва — это что Карш трясет меня за грудки и орет во всю глотку. Слова по отдельности я понимаю, а вот смысла уловить никак не могу. Я болтаюсь в руках Карша, точно тряпка, а Тикат у него за спиной кричит в стену:
— Лукасса, Лукасса!
Другой волшебник тоже здесь, стоит и смотрит на Тиката со странной, рассеянной улыбкой, которая расплывается все шире на его безгубом рту. Это как сон. И мне все время кажется, что это длилось очень долго.
Тут вмешался Соукьян. Он задвинул меня себе за спину и удержал Карша на месте, упершись одной рукой ему в грудь. Помню, как он сказал таким низким и хриплым голосом, что Карш непременно должен был догадаться, кто он, несмотря на личину:
— Стой где стоишь, толстяк!
Его слова я понял. Потом он обратился ко мне:
— Россет, с тобой все в порядке?
Прежде чем я успел ответить — если я вообще мог говорить, — Карш взревел:
— Пропади ты пропадом! А о чем, по-твоему, я его спрашивал, глупая ты баба?!
Тут я заржал — просто не мог удержаться от смеха. И даже не столько потому, что знал, что Соукьян не баба, сколько потому, что Карш отродясь с постояльцами так не разговаривал. Соукьяну тоже пришлось меня немножко потрясти. Наконец я выдавил: