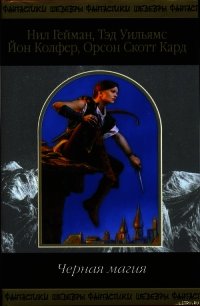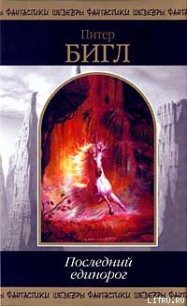Песня трактирщика - Бигл Питер Сойер (книга жизни TXT) 📗
— Но сперва тебе придется меня выслушать. Это мое единственное условие: чтобы ты выслушал все, что я тебе расскажу. Рот закрой! Тебе совершенно не обязательно еще и выглядеть идиотом. Ты меня слышишь, Россет?
— Ага… — ответил он. Вот так всегда: болтает без умолку, когда не надо, а когда надо, слова не вытрясешь. От этого его пустого, настороженного взгляда голова у меня разболелась еще сильнее. И зачем я вообще завел речь об этой проклятой истории? Можно было и подождать. Пятнадцать лет ждал — почему бы не подождать до завтра, или до той недели, или вообще до могилы?
— Ну так вот, — сказал я. — Давным-давно мне пришлось отправиться по делу в Чет-на'Деку. По какому — это не важно. Дорога туда была долгая, а обратно и того хуже. Знаешь, почему?
— Из-за разбойников? — спросил он. Догадаться нетрудно — в Чете народ сплошные разбойники, что тогда, что теперь.
— Из-за разбойников, — кивнул я. — А может, тогда война шла — хотя большой разницы нету, разве что солдаты в мундирах, а разбойники без. Я так и не узнал, что за шайка побывала в той деревне.
Россет молча слушал. Я встал, ногой подвинул ведро вправо, обошел его, снова сел.
— Я возвращался один и пешком — не по своей воле, а потому что ни за какие деньги не мог нанять ни проводника, ни повозки. Это и сейчас невозможно, насколько я знаю. Из оружия у меня с собой был только посох, отцовский, такой, знаешь, с железным наконечником. Я шел по ночам, держась в стороне от больших дорог, и на третий день увидел вдалеке столб дыма. Черного дыма, как от пожара.
Глаза у Россета оставались неподвижными и непроницаемыми, как вода в колодце, но он подался вперед и стиснул руками край кипы, на которой сидел.
— В ту ночь я дальше не пошел, — продолжал я. — Я слышал, как мимо проехали всадники, много всадников, достаточно близко, чтобы я расслышал, как они смеются. Я двинулся в путь не раньше полудня следующего дня, и потратил столько времени, прячась за деревьями у дороги, что до деревни добрался, когда солнце уже садилось. Когда идешь на цыпочках, это сильно замедляет продвижение.
Я не хотел, чтобы он подумал, будто я пытаюсь выставить себя героем. Разговор и без того был достаточно неприятный.
— Как она называлась? — спросил он так тихо, что с первого раза я его не расслышал. — Как называлась деревня?
— Откуда я знаю? Спросить было не у кого, там не было ни единой живой души. Одни трупы. Трупы вдоль единственной улочки, на порогах собственных домов, сброшенные в колодец, плавающие в поилке для лошадей, на столах на площади. Одну женщину затолкали в печку деревенского пекаря — может, это была его жена, или дочка, откуда мне знать? Живот у нее был вспорот, точно мешок с мукой, как и у всех прочих.
Я старался говорить как можно быстрее и равнодушнее, чтобы поскорее покончить с этим. Кое о чем я говорить не стал.
— И что, там никого не осталось? — Он прокашлялся. — В живых не осталось никого.
Это был не вопрос. Мы разговаривали точно в храме, когда священник читает молитву, а молящиеся послушно повторяют последнюю строку. Я сказал:
— Я так и подумал. Пока не услышал детский плач.
Ну что ж, по крайней мере, он избавил меня от необходимости рассказывать хотя бы часть.
— Я… — прошептал он. — Это был я…
Я снова встал. Мне хотелось попытаться передать ему, как это было: тишина, монотонное зудение мух, воняет кровью, дерьмом и гарью — и пронзительный, сердитый, голодный плач, восходящий к небу вместе с последними струйками дыма. Вместо этого я повернулся к нему спиной, сунул руки в карманы фартука и уставился на злую черную лошаденку Тиката, жалея, что у меня не хватило ума захватить с собой остатки «Почек шекната».
— Я не сразу нашел тот дом, — сказал я. — Мне пришлось свернуть в переулок, а там все было изрыто ямами и колеями — впору ноги переломать. Домик был в одну комнату — глинобитные стены, крыша, крытая дерном, обычная деревенская хижина. У порога росли печальницы, это я помню. Над дверью висела небольшая охапка колючей дики.
В тех краях дику вешают над дверью, чтобы отвести зло. Россет ничего не сказал. Я продолжал:
— Дверь была заперта на щеколду и еще чем-то привалена изнутри. Я постучал, толкнул дверь, потом окликнул хозяев.
Я обернулся к нему.
— Я действительно окликал их, Россет. Четыре, пять, шесть раз.
Не знаю, почему мне так хотелось, чтобы он поверил. Какая разница, в конце концов? Но тогда это почему-то казалось важным.
— Я кричал: «Эгей! Там кто-нибудь есть? Есть кто дома? Вы меня слышите?» Но никто не ответил. А ребенок все плакал.
Он попытался снова сказать: «я», но голос ему отказал — только губы шевельнулись. Я услышал снаружи шаги, голоса, и понадеялся, что нас прервут — кто угодно, хоть Шадри, хоть эта проклятая лиса. Лиса не показывалась в трактире с той ночи, когда все полетело в тартарары, но теперь она уже чудилась мне в каждой тени, под каждым кустом. Было бы очень кстати, если бы она именно сейчас забежала в конюшню. Но вокруг не было никого, кроме меня, и голова у меня гудела все сильнее, а в глотке все сильнее пересыхало, а голос мой все звучал. А Россет все смотрел на меня.
— Я подошел к окну, — сказал я. — Выбил посохом ставню и перелез через подоконник. Внутри было темно, Россет, потому что хижина была заперта, а я только что влез с улицы, где светило солнце. Я слышал ребенка — тебя, — но не видел, где ты, и вообще ничего не видел. Мне пришлось некоторое время постоять, чтобы привыкнуть к темноте.
Он знал, что будет дальше. Не в подробностях, как я, но видно было, что он все понял. Он сидел, уставившись в пол, то и дело облизывал губы и на меня не смотрел. Лицо и руки у меня сделались холодные. Я сказал:
— Кто-то ударил меня. Сильно ударил, вот сюда, в голову. Я подумал, что мечом. Я упал, и они все набросились на меня. Они били меня молча — мне казалось, что по меньшей мере дюжина людей колотит меня во все места одновременно, пинает и рубит, точно сечку из корня тиали. Целая дюжина людей убивала меня, а я их даже не видел. Клянусь, мне так показалось.
— Но их было только двое, — сказал Россет. Лицо у него сделалось белым, как у Лукассы, и сморщилось. — Их было только двое.
— Ну, я ведь не мог этого знать, верно? Я тебе говорю, они не произнесли ни слова! Все, что я знал, — это что меня убивают, как собаку!
Я не замечал, что кричу, пока пара лошадей не заржала от испуга.
— Кровь заливала мне глаза, Россет, я ничего не видел, я думал, что мне разрубили череп. Взгляни, вот тут, пятнадцать лет прошло, а до сих пор чувствуется. Я подумал, что сейчас меня ухлопают, как ту женщину в печке, понимаешь?
Россет не ответил. Он встал с сенной кипы и принялся ходить по кругу, безвольно опустив руки и по-прежнему не глядя на меня. Походив, он зачем-то подошел к мерину, которого лечил, потом снова повернулся и остановился. Я сказал:
— Посох был со мной. Мне кое-как удалось подняться, и я просто принялся размахивать им во все стороны, вслепую, в темноте, пытаясь отогнать их. Я просто хотел их отогнать, и все!
Мне пришлось снова сесть. Пот тек с меня ручьями, и я начал задыхаться, словно опять пробежался вверх по лестницам. Россет остался стоять, глядя на меня сверху вниз.
— Моя мать и мой отец, — сказал он.
Я кивнул, ожидая следующего вопроса — того, который я слышу во сне почти каждую ночь, даже теперь. Но он не мог задать его — он не мог произнести ни слова. Поэтому мне пришлось сказать это все самому, несмотря на то что в груди у меня медленно каменел здоровый кусок цемента.
— Я убил их, — сказал я. — Я этого не хотел. Я не знал.
Во сне он обычно с криком бросается на меня, пытаясь вцепиться мне в горло. Я был готов к этому, как и к тому, что Россет расплачется, но он не сделал ни того, ни другого. Колени у него медленно подогнулись, он рухнул на пол и остался стоять на коленях, плотно обхватив себя за плечи и уронив голову. Я услышал тонкий сухой звук. В той сгоревшей деревне я его не слышал.