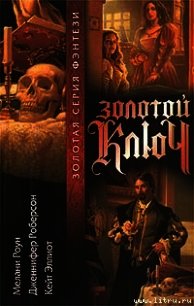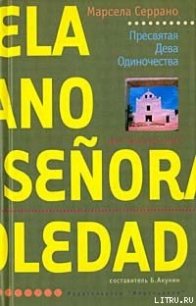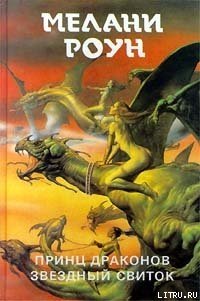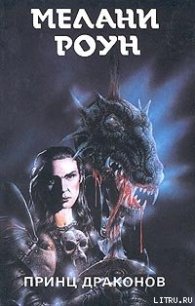Золотой ключ. Том 1 - Роун Мелани (лучшие книги txt) 📗
— Ведра, я и не знал, что ты такой хороший мастер.
— Но… — с хрипом вырвалось из ее горла, — ..это же ужасно! Игнаддио энергично замотал головой.
— Это просто здорово!
— Нет! Нет! — Сааведра замахала на него руками, чтобы молчал. — Где ты ее взял? Она не моя.
Он пожал узкими плечами, не сводя с картины восхищенный взор.
— В мастерской.
— В чьей?
— Ну, в той, куда мы перетащили все картины, которые надо отвозить. — Ему это было неинтересно. Перевозка картин — обычное дело для семьи художников, написавших несметное множество копий. — Ведра, а тебе здорово удались корявые руки. И складки на лице… Это от боли?
— Надди! — Она хотела сказать, что это ужасное полотно не заслуживает похвалы, но промолчала. Создавший его художник не просто талантлив, подумала она. Гениален.
— Кто это? — спросил Игнаддио. — И почему захотел, чтобы его написали таким?
Он был юн, но уже понимал, что порой тщеславие одерживает верх над правдолюбием.
— Я не знаю, кто это… — Это была ложь. Она узнала. — Фильхо до'канна! — Она упала на колени, а Надди расхохотался — ругательство привело его в восторг. — О Матра, Пресвятая Матра…
— Ведра, кто это?
Она поцеловала кончики пальцев, прижала их к сердцу.
— Номмо Матра эй Фильхо, не смей! Не смей этого делать… В ушах настойчиво звучал вопросительный мальчишеский дискант, а по коже ползли мурашки. Дрожащая рука — чья? неужели ее? — дотянулась до парчи, закрыла картину.
— Надди…
— Ведра, чья это работа?
— Нет. — Ее рука легла на плечо мальчика, крепко сжала. — Нет, Надди. Не важно. — Сааведра с трудом встала, повела его к отворенной двери. — Ступай. Ты мне нынче хорошо помог, спасибо… Иди во двор, поиграй с ребятами.
Он упирался.
— Но я должен знать…
— Нет.
"Ты не должен этого знать. Никто не должен этого знать”.
— Надди, ступай.
— Но…
— До'нада, — строго произнесла она. — Игнаддио, это все ерунда. Дурацкий шарж.
— Но…
Она вытолкала его, хлопнула дверью, привалилась к ней спиной. Филенки пропустили последний жалобный вопрос; не дождавшись отклика, Игнаддио ушел.
Дрожа, Сааведра оттолкнулась от двери, выпрямилась. Подошла к кровати. Коснулась парчи, обнажила изуродованные руки, искаженное мукой лицо Сарагосы Серрано.
Она уже видела эту картину. В ателиерро Сарио. Вспомнила, как спрашивала о бордюре и критиковала его за искусственность… С тех пор он не пишет картин без бордюров.
"Он ее оставил здесь нарочно. Хотел, чтобы я увидела и поняла”.
Желудок сжался в тугой комок. Сааведра повернулась спиной к картине, опустилась на пол, царапая спину о раму кровати.
"Я всегда была его наперсницей, всегда понимала, как ему необходимо выражать свой Дар. А теперь он мне напоминает, что мы с детства были заодно”.
Она сидела на голых каменных плитах, невидяще глядя в стену. Ее тошнило, по щекам катились слезы, а в сердце разрастался страх.
Страх перед грозной Луса до'Орро Сарио Грихальвы, Верховного иллюстратора.
Глава 22
Он растрачивал себя с таким пылом, словно впервые в жизни оказался в постели с женщиной. Спешил, выжимал все соки из тела— и души. А потом лежал неподвижно, как скрученная влажная простыня. Не в силах был даже пошевелиться. И не чувствовал ни малейшего удовлетворения, только опустошенность.
Женщина под ним не протестовала. Негромко, с придыханием смеялась, что-то шептала про меч, которому явно пришлись впору ножны. Он молчал, не вникал. Пускай льстит себе, пускай верит, что насытила, ублажила его.
Потом он сполз с нее, ощутив скользкую плоть, прилипшую к его телу, и вдруг понял, что совершенно напрасно отдал свои силы, свое семя. Растранжирил сокровище, для которого мог найти гораздо лучшее применение:
Он отодвинулся от женщины, высвободился из скрученных, спутанных простыней и одеял, встал, выпрямился. На коже сох пот. Он не стыдился своей наготы. Женщина повернулась к нему, оперлась локтем на подушку.
— Уходи, — сказал он. — Адеко. Этого она никак не ожидала.
— Но…
— Ты получила все, что я мог тебе дать. Что осталось, то — мое. И уж я найду способ потратить это более толково.
Недоумение перешло в злость. Она откинула белье и вскочила с кровати; она тоже не стыдилась своей наготы. С ее уст сорвалось привычное ругательство, и он рассмеялся.
— Мальчики? Ты о них? — Она потянулась за исподним, натянула через голову просторную рубашку, одернула на пышной груди и крутых бедрах. — Мальчик после девочки, как сладкое вино после кислого. Да?
Он промолчал, глядя, как меняется ее лицо. Ему еще не доводилось видеть такие мины: презрение, унижение, с трудом сдерживаемая ярость — все вперемешку.
"Надо бы запомнить… Пригодится”.
Женщина прошлась злым шепотком насчет его внешности, мужских способностей, навыков любовной игры. Он молчал, дивясь ее обширному запасу ругательств; неудержимо расползалась ухмылка. Женщину это привело в бешенство, и на прощание она с такой силой хлопнула дверью, что он испугался, не треснул ли косяк.
Ушла. Но остались следы: густой аромат дешевых духов (настой фиалок на масле; масло уже прогоркло), запах пота и зря потраченного семени. Сарио не спешил одеваться. Он смотрел на кровать и размышлял. В том, что он — мужчина, не было сомнений. Но и в том, что на свете есть кое-что поважнее мимолетных радостей совокупления, он тоже был уверен.
"Мимолетная радость… Как она не похожа на радость творчества, которой мы живем и дышим, которая всегда с нами? Как часто мы убеждаемся, что этот преходящий миг плотского наслаждения никогда не станет живее, реальнее наслаждения, даруемого искусством? Ибо подлинное наслаждение — не от тела, а от разума; над ним не властны такие пошлые явления, как усталость, или пресыщенность, или неспособность в иных обстоятельствах поднять свой ненадежный меч”.
Сарио улыбнулся. Грош цена этому мечу. Он стареет, слабеет, вянет. Зато нельзя ни сломать, ни согнуть меч истинного творения. Меч власти. Тот, что существует под разными названиями, под разными личинами. Кита'аб. Он же — Фолио.
Как и большинство городов, Мейа-Суэрта когда-то была крошечным поселением. С тех пор она изрядно расползлась и отрастила длинные щупальца пригородов; им было мало сочной зелени долины, они взбирались на отроги высоких холмов и дотягивались до топких низин. За крепостной стеной лежал сплошной ковер виноградников, садов и хижин, где обитали те, кто предпочитал городской духоте и сутолоке глушь и болотную сырость. Впрочем, от сырости страдали и горожане, особенно Грихальва, — она их пронимала буквально до костей.