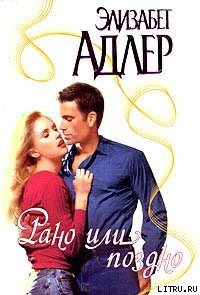Дни войны (СИ) - "Гайя-А" (книга жизни .txt) 📗
Дракон надулся, и выпустил несколько струек дыма в разные стороны, пыхтя и сопя. Над ними разворачивались и летали другие драконы, где-то, судя по реву, веселилась целая стая. Вопреки ожиданиям, хохот ящеров был слышен даже сквозь шум ветра.
— Чтобы пробить броню, надо еще хорошо прицелиться, — слегка высокомерно сообщил Арно. Воевода оценивающе окинул взглядом ящеров.
— А есть у вас броня? Не особо рассчитывай на свои чешуйки, крылатый юнец. И сколько мне будет стоить ваше вмешательство? — живо осведомился Ниротиль. Пипс икнул, и переглянулся с братом и Молнией.
Летящий осознал, что начинает немного ревновать драконов к подруге.
— Двести в день, — повоевав немного с собственной алчностью, пробормотал Пипс, — и я хочу долю от…
— Сто, — ответил тут же воевода Лиоттиэль, — и ни грошом больше.
— Помилуй, ты оставляешь мое гнездо пустым и голодным!
— Сто двадцать!
— Драконов не водилось в твоих предках? — убито прошипел Арно, но его старший брат не сдавался:
— Меньше, чем за сто восемьдесят, я не расправлю и одного крыла!
— Сто пятьдесят — и ты расправишь оба, никаких инспекций груза, — торжествующе сообщил Ниротиль, — и это мое последнее слово.
Драконы остались довольны торгом; это можно было определить по их нетерпеливо бьющим о землю хвостам. Пыль стояла столбом.
«Если бы также я торговался за свой трон…если бы я знал, что так можно торговаться! — думал Летящий, стараясь усилием воли не думать о том, что впереди ждет весь белый город, когда станет известен его договор с владыкой Иссиэлем, — и все же не могу, не смею торговаться… только не теперь и не сейчас. Нет такого трона, который бы стоил жизни всему народу».
«Идеалист, — сказал в его голове голос, в котором Летящий с трудом узнал голос Оракула Элдар, и понять не мог, как он мог зазвучать так ясно, — нет такого народа, который не стоил бы нашей войны».
========== Полные надежд ==========
Ревиар Смелый кусал губы, надеясь, что проснется, и только что услышанное окажется сном.
— Не говори моей дочери, — было первое, что он смог произнести, и выдохнул, — если это правда, надо ждать подтверждения. Как он погиб?
— Очень хорошо, мой повелитель, — бесстрастно поклонился Первоцвет, — защищал заставу в Кунда Лаад, и пал смертью мученика вместе с остальными двумястами…
— Чтоб им сгинуть, бесовым выродкам! — возопил, не в состоянии сдержаться, полководец, — хорошей смерти не бывает, и не бывать ей никогда. Уйди!
Первоцвет грустно вздохнул, выказывая сочувствие. Он оставил Ревиара одного. Постояв немного, полководец твердой походкой направился к своему столу, и поставил перед собой бутылку красного вина из Заснеженья, подаренную Брельдаром.
Но пить тут же расхотелось. Ревиар бессознательно смахнул кубок со стола, и затуманенными глазами следил, как красное вино расползается по дощатому полу.
Весь север Кунда Лаад был потерян. Дорога на Беловодье окончательно под властью Союза. Лучший друг оказался на этот раз в списке погибших. Это, конечно, был не окончательный приговор, но близкий к нему. Полководец запустил руки в волосы и взъерошил их. Как ни старался он отвлечься от того, что происходило в его душе, это ему не удавалось.
Он и Гельвин. Вместе на ристалищах Торденгерта тридцать лет назад. Одинаково упрямые в воинском искусстве. Гельвин, читающий стихи о победе белого города. Ревиар, бьющий того, кто стихи эти высмеял. Гельвин, утешающий его после смерти Гильдит — которую никогда не видел в лицо, и лишь под покрывалом издали единожды. Ревиар, за шиворот волочащий мужа Гельсин, и заставивший его работать, чтобы кормить, наконец, растущую семью. Меч Хмеля, отбивший удар, нацеленный в спину полководца. Рука Хмеля, твердо державшая стяг кельхитов в племенном конфликте — он рисковал званием, заступаясь за честь друга. Улыбка из-под мокрых русых усов, когда, после трех дней засады под проливным майским дождем, им все-таки удалось отбить отару тощих овец у Афсар — и от голода в ту весну больше никто не умер…
Он был. И его, наверное, не стало. Вместе с ним на днях обещало сгинуть целое королевство, но сейчас Ревиар с легкостью пожертвовал бы значительной частью королевства, чтобы только повернуть время вспять и никогда не возвращаться в Элдойр.
«Спешно будут суетиться хозяйки подворья, — думалось мужчине, — собирая тризну и вывешивая траурные знамена; занавешивая окна и входы. Много выпьют воины… Как это мало рядом с горем, которое останется после!».
И Мила. Ревиар вздрогнул. Он вовсе забыл о своей дочери в эти минуты.
***
Мила хранила самообладание не хуже полководца, даже когда, вернувшись к отцу, обнаружила дом в траурном облачении. Из соседнего двора — занятого под зерно, сено и иные запасы — доносилось пение.
— Луна над простором степи помнит всё, — дрожал нежный голосок юной кельхитки, — и мне говорят, ты этой луны не видишь…
Мила остановила за локоть одного из ревиарцев отца.
— Кто?
— Учитель Гельвин, сестра. Держись…
Мила сделала несколько шагов и опустилась у корней дерева, росшего во внутреннем дворе. С ветвей его уже начали опадать листья — близилась ранняя в этом году осень. Закрыв глаза, Мила прислушалась к своему оглушенному страшной новостью сердцу.
«Я бы не смогла дышать, если бы он умер. Так я говорила? И все же я дышу».
— Мила?
Девушка открыла глаза. Отец присел возле нее на сложенный плащ. Кельхитка за стеной продолжала томно надрываться:
— Ветер развеял твои поцелуи, следы твои поросли бурьяном и полынью…
— Его… его привезли? — спросила она, чувствуя, как онемели прикушенные губы.
— Его не нашли.
— Значит… — Мила боялась вдохнуть и боялась задохнуться. Ревиар покачал головой. Тени под его глазами стали жестче.
— Значит, собаки или лесные кабаны.
— Но в прошлый раз…
— Иди, — оборвал ее отец, глядя в землю, — отошли чего-нибудь его сестре и брату. И позаботься о хинте.
Хинтом — трауром, по мнению оборотней, остроухие просто болели; видимая и явная печаль не считалась постыдной или несвоевременной ни для кого. Со стен и окон снимались занавеси и гобелены, на стол не подавали ничего, кроме закусок, а замазанные пеплом ворота и калитка предупреждали случайных гостей о поводе соболезновать.
Девушки облачались в скромные серые платья и красные или серые вуали — тут дело зависело от традиций. Как-то при Оракуле один из его воинов высказался, что в трауре не дозволяется мыться. Оракул потребовал источник. Узнав, что подобных мнений придерживается чья-то чрезвычайно благочестивая супруга, владыка вознегодовал.
— Бабьи басни! — громко произнес он и нахмурился, затем постучал посохом по полу, — половине женщин Элдойра я бы вырвал языки, и это была бы победа в войне с глупостью.
Но у Ревиара Смелого даже траур был скромен. Только близкие знали, что неполным трауром Ревиар оставляет лазейку судьбе: ведь Хмель Гельвин выбирался всякий раз чудом из самых опасных передряг. И до вечера четверга заупокойную молитву отложили.
***
…Сернегор задернул занавесь на окне, сооруженную из старого одеяла. Это Гроза додумалась завесить единственное окно в половине той каморки, что они занимали в госпитале. Так все-таки было куда уютнее. Князь оглянулся по сторонам. Так он еще ни разу не осматривал своего жилища.