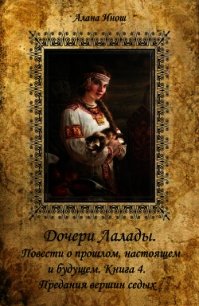Осенними тропами судьбы (СИ) - Инош Алана (читать книги без сокращений txt) 📗
– Ух… Государыня, – одышливо попыталась возразить Яромира. – Кхе, кхм… Она – из западных земель, ей нельзя верить ни в чём! Её пение…
– Глупости, – оборвала её княгиня. – Хмари на ней давно нет. А если ты ничего не понимаешь в пении и тебе медведь на ухо наступил, это ещё не значит, что ты вправе затыкать кому-то рот. Дарёне можно всё, она – моя гостья, и не смей её притеснять! Тебе всё ясно?
– Так точно, государыня, – буркнула Яромира.
А княгиня, взяв Дарёну за руку, сказала:
– Идём-ка в твою светлицу… У меня есть для тебя добрая весть.
Вскоре девушка рыдала от радости, узнав о том, что со дня на день свидится с матушкой и братцами, а Лесияра, устало улыбаясь, поглаживала её толстую косу. Любима крутилась рядом и – удивительное дело! – совсем не ревновала родительницу к Дарёне, а беспокоилась, почему девушка опять плачет.
– Это она от счастья, – объяснила Лесияра дочке.
Откуда-то с востока шла неведомая беда, а с запада возвращалась та, о ком княгиня так долго пыталась не думать, но судьба вновь сводила их пути. Решение выросло непоколебимой горой: встретить, принять и не отдавать никому и никогда.
9. Яснень-трава, найденная жизнь и Сокол-странник
На что похожа хмарь? Каждый видит её по-своему. Для кого-то она – как тяжёлый зверь с огромными лапами, ложащимися на плечи и грудь удушающим грузом; для кого-то – бледное туманное чудовище, превращающее землю под ногами в вязкое болото… Для Млады хмарь была чёрной пеленой, затмевавшей свет солнца. Дневное светило становилось бледным и тусклым, как луна, а воздух лился в лёгкие густой, ядовитой жижей навозного цвета. Если бы женщина-кошка не захватила с собой баклажку с отваром яснень-травы, она мало что смогла бы разглядеть вокруг себя, погрузившись в угольную тьму Марушиного царства. Один терпкий и пронзительно-горький глоток отвара в день прояснял и взгляд, смывая с глаз чёрную завесу, и выводил из груди мерзкую дёгтеобразную слизь, оседавшую в лёгких от дыхания насыщенным хмарью воздухом, и восстанавливал постоянно притуплявшееся чутьё. Едва Млада чувствовала, как хмарь начинает брать верх – сразу же прикладывалась к баклажке с мелким чёрно-золотым узором и изображением девушки, рвущей яблоки.
Багровое солнце кололо глаза, готовое совсем скоро опуститься за край вечернего сумрака, уже сгущавшегося на земле. Дорога Млады лежала сквозь сосновый бор, наполненный безветренной сырой тишиной…
Когда-то она рыскала в этих местах чёрной кошкой в поисках Жданы, скользя шелковистой тенью между молчаливыми стволами. Притаившись за кустами, она следила за знакомой фигурой молодой замужней женщины, сидевшей у лесного ручья с корзинкой ягод. Мощное тело кошки застывало в жгучем оцепенении, сердце в широкой груди горько билось под чёрной шерстью, а взгляд холодных яхонтовых глаз скользил по грустно опущенным ресницам, знакомым до ноющего отчаяния. Когда-то эти ресницы щекотно дрожали под губами Млады, совсем не пряча страстного блеска в зрачках, а теперь… Щёточками из собольего меха они одевали скромно потупленный взор – точно так же, как скрывал волосы головной платок, повязанный поверх богато вышитой бисером и жемчугом шапочки.
«Матушка, а это какой гриб?» – звонко разбил сказочную лесную тишь светлый детский голосок.
Чёрная кошка смотрела во все глаза, боясь качнуть дыханием даже щекотавший её нос листок… Вжавшись брюхом в землю, она лежала за кустами и в беззвучном ошеломлении смотрела на маленькую девочку, бежавшую к Ждане, чтобы показать большой, крепкий боровик.
«Не беги, родная, упадёшь!» – строго отозвалась мать.
Кошка каждым ударом своего сердца просила землю не позволить резвым ножкам споткнуться… Хоть и простёрлось тёмным куполом над этими краями Марушино владычество, но земля – везде одна. Ощутив утробой толчок-отклик из её сонных недр, кошка мысленно бросила под ноги ребёнку невидимый ковёр из горьковатой нежности, которая ворохнулась внутри вопреки боли.
«Это боровик, солнышко моё». – Материнские пальцы проворно и заботливо заправляли выбившиеся из косы прядки девочке за уши.
Облачная тень уплыла, и Ждану с дочкой, сидевших у подножья большой сосны, озарило солнце. Они даже не догадывались, что находились здесь не одни… Ждана с ясными живыми искорками в глубине глаз казалась лесной кудесницей – словно это от её светлой улыбки рассеялись тучи. Удивительное дело: живя в Воронецком княжестве, средоточии Марушиного господства, она оставалась поразительно чистой. Хмарь расступалась перед ней. Повзрослевшая, далёкая, отданная в жёны мужчине, она с годами расцвела и стала краше прежнего. Дочь не унаследовала и четверти этой красы: веснушчатой дурнушке достались от Жданы только глаза. Но и их оказалось довольно, чтобы чёрная кошка за кустами обмерла от наконец-то настигшего её дыхания судьбы.
Впервые эти глаза ей приснились на втором году рудников. Отбывая наказание на самой тяжёлой работе, Млада бредила этими глазами почти каждую ночь, а в сердце горько стучали слова родительницы: «Только гостья». Твердяна уже тогда всё знала, а они со Жданой, влюблённые и слепые, не хотели даже слышать об этом. После освобождения, срезав с бритой головы прядь-осередец, чтоб волосы отрастали ровно, Млада направилась к Радимире: больше ей податься было некуда.
«Обратно на службу хочешь?» – только и спросила та, пронзив Младу булатом сероглазого взгляда.
«Да, госпожа», – тихо промолвила Млада.
«Твоя родительница просила за тебя, – сказала Радимира. – Я не могу ей отказать».
Пересечение западной границы Белых гор было под запретом, и Младе даже мечтать не приходилось о том, чтобы ей разрешили отправиться на поиски похищенной Жданы. Никакого разрешения она и не стала спрашивать. В один из свободных дней, не став отсыпаться после ночного дозора, она перенеслась туда, куда её звало разбитое сердце, которое всё-таки болело о Ждане, беспокоилось и страдало: жива ли, здорова ли? Все пять лет в рудниках, от первого дня до последнего, оно обливалось кровью, стоило Младе представить, как неизвестные злодеи куда-то волокут девушку, причиняя ей боль. Кулаки сжимались, а собственная душевная рана забывалась и отступала в тень перед этим. Млада не винила Ждану ни в чём.
И вот, Ждана сидела под сосной, озарённая солнцем, и латала прореху на рубашке дочки, предварительно велев той зажать во рту обрывок нитки – чтоб память не «зашить».
«Сиди-ка спокойно, не вертись, а то иголка вонзится», – спокойно и ласково приказала она ребёнку.
Млада вздрогнула, узнав игольницу – подарок Зорицы. Значит, Ждана сохранила чудесные белогорские иглы… Видимо, оттого и бежала от неё хмарь.
Как бы то ни было, притаившуюся за кустами чёрную кошку теперь больше волновала девочка, чем сама Ждана, которая была слишком красивой и далёкой. Отпечаток мужчины лежал на ней, делая её чужой. Она вся пропахла своим мужем: этот ненавистный, тошнотворный запах окружал её невидимой стеной, и шерсть на загривке кошки невольно встопорщилась. Тяжёлое, смутное чувство вражды к этому человеку ядовито обожгло сердце, хоть его даже соперником-то назвать было нельзя. Он считался бы таковым, если бы у Млады были виды на Ждану. Но – не судьба.