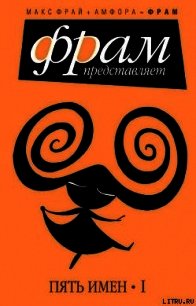Пять имен. Часть 2 - Фрай Макс (версия книг txt) 📗
Из могильного хлада и тьмы, лавиной хлынули на него влюбленные мертвецы, во славе и бесславии свального греха. Сладкий смрад, сдавленные косноязычные речи, хлынули, увлекая, завлекая, и за содрогающимися комьями трупных любовных игр, флорентийской любовной заразы, сломанной куклой плясал голый отрок, корабел у кормила брачной ночи в колебля в руке, слабой, как колосок, колыбельку фитильного фонаря, посылая сполохи света.
Он кивал головой на мягкой бескостной шее то вправо, то влево, продолговатые миндалины глаз его, подобных протухлым яйцам, напоминали выклеванные глаза сокола, на левом плече отрока-фонарщика бронзовела соблазнительным изгибом ящерка, а на правом, смеясь, как безумная, чистила слипшиеся перышки пташка с человеческой головкой, вертящейся вокруг своей оси. Облачный разоблаченный облик отрока то приближался, то удалялся, стоял он по колено в гробу, будто в выдвижном на полозьях ящике шкафчика-поставца, какие ловко ладят мастера краснодеревщики из области Форли.
Сер Соффьяччи кулем рухнул на пороге, теряя чувства.
Наутро звонарь Марио нашел сторожа на пороге настежь распахнутой мертвецкой.
От сера Соффьяччи разило сивушным паром, тела лежали на месте, на первый взгляд, ни одно не пропало.
Придя в себя, сторож упрямо рассказывал одну и ту же побасенку о шагающих мертвецах, но каноник церкви Санта Мария делла Мизерикордия сказал ему, постучав себя по лбу:
— Жалкий брехун! Те несчастные, что лежат внизу горько жили и горше того умерли. Справедливо будет поставить на охрану человека здравого, а не пугливого пьянчужку в мокрых портках.
Твое счастье, забулдынга окаянный, что никакой лекарь-потрошитель не осквернил их покой. А ты, Соффьяччи, ступай с Богом на все четыре стороны, ни гроша я тебе не заплачу за столь скверную работу и возвращайся сюда, если тебе будет угодно, только после смерти. Тьфу на тебя.
Серу Софьяччи ничего не оставалось, как убраться восвояси, хотя про себя он благодарил строгого каноника — ни за какие блага он бы и сам не остался сторожить мертвецкую после брачной ночи. В последний раз я видел его на Новом рынке — он торгует детскими глиняными свистульками, которые сам же и лепит из мутной грязи на отмелях Арно. Все свистульки изображают либо ящериц, либо аляповатых птичек с головами, как у маленьких девочек. Сер Софьяччи вполне счастлив, овладев новым для него ремеслом.
Нам с вами смешон вымысел старого враля и питуха, ведь даже малые дети знают: те, кого смерть сочла своей жатвой, навеки лишены движения, воли и страстей, и мой вам совет — во владениях лукавой и двуликой монны Флоренции стоит опасаться живых сто крат больше чем мертвых.
Новелла 22. О брате Волке и брате Водяной Крысе
Землепроходцы и купцы, путешествующие по отдаленным и диким странам, подвергают опасности не только самих себя, но и жизни родни, друзей и покупателей.
Идолы языческих кумиров, которые они привозят с собой на продажу собирателям и знатокам заключают в себе великую пагубу не только для христианских душ, но и смертных тел — бывает, что их вырезанные из сандала и эфиопского дерева формы напитаны ядовитыми испарениями неведомых Европе болезней.
Много лет назад в городе Ассизи, который, как ядрышко ореха, заключен в масличные окоемы умбрийских холлмов, поселилась семья выходцев из Кастилии.
Глава семьи был человеком строптивым и властным, на посмешище всему городу кичился он своей древней кровью, тем, несомненно, выказывая на люди дворянскую глупость.
Он был столь заносчив, что никто не хотел с ним знаться за панибрата, жену и дочь он держал взаперти, как нубийских или лезгинских невольниц в серале, сам вышагивал в гербовом платье, как мул в колпаке, но соседи отлично ведали, что у него нет средств даже на то, чтобы сносно содержать дворовую собаку.
Дочь кастильца звалась Чирриди, что в переводе на тосканское наречие означает «Ласточка».
Юноши, которым посчастливилось мимоходом подглядеть, как эта девушка приподнимает муаровую вуаль, приступая к Причастию, в один голос сокрушались между собой:
— Как только земля носит старого пса, который смеет прятать от мира такую красавицу. Неужели Чирриди суждено осыпаться пустоцветом за семью замками. И лестно было бы сорвать этот цветок, да кто захочет получить в довесок дурного тестя, злющего, как тарантул в голодной норе?
Несчастная Чирриди была столь же красива, сколь и запугана отцом, никто не решался посвататься к ней, одни из-за бедности ее, другие и вправду не желали видеть кастильца своим тестем.
Как говорили, сын процветающего венецианского негоцианта Габриэле Кондульмер испрашивал ее руки у кастильца, но сватовство не состоялось, сам негоциант Кондульмер пригрозил своему первенцу:
— Если не оставишь бессмысленные мечтания, я найму лихих людей и никто больше в Ассизи не услышит о семействе злонравных иностранцев. Что нашел ты, сын мой, в чумазой нищенке-мавританке, она чужая, она иностранка, и наверняка, так же глупа, как темно ее лицо.
— Черна она, но прекрасна. — печально отвечал Габриэле, но опасаясь навлечь беду и ославление на возлюбленную и отцовское проклятие на себя, отказался от притязаний.
В отместку он отверг и богатую невесту-ровню, которую ему выбрал отец по своему вкусу.
Иная возлюбленная ожидала его — донна Экклезия.
Габриэле из рода Кондульмер принял монашеский постриг.
А девицу Чирриди наконец-то взял в жены мелочный торговец.
Отныне семейство кастильца держалось только на его скудных заработках.
Муж Чирриди был не простым лавочником, но торговцем чудесами, так в Умбрии называют тех бедняг, которые не имея средств путешествовать с караванами по Великому Шелковому Пути, в одиночку стаптывают каблуки по городам и весям, стремятся в восточные страны, и, если повезет вернуться невридимыми, привозят издалека драгоценные пряности, шапочки персов-пламенепоклонников, южные раковины, певчих птиц, горшочки с притираниями, храмовые колокольчики, крашеные перышки райских птиц, ароматические палочки, скляницы с уветным песком, собранным на берегах священных рек, фигурки демонов, многоруких, как насекомые, божков и пузатых уродцев из слоновой кости и самшита, всего помалу, чтобы не тяготить себя излишней ношей.
Молодожены виделись мало, замужняя Чирриди продолжала тосковать взаперти.
Наблюдая, как она чахнет, бледнеет и понемногу разучивается улыбаться, кастилец, скрепя сердце, отправил дочь в загородный дом к одной старухе, которой требовалась молодая скромная работница в плодовый сад на время сбора урожая.
В ее отсутствие, августовской порой торговец чудесами, возвратившись из города Мерва, привез в дом партию товара.
Среди прочих редкостей в его седельные сумки неведомым путем попала одна фигурка — размером не более детской куклы, искусно отлитая из древней бронзы. Сам торговец, как ни бился, не смог взять в толк, как она досталась ему. Фигурка изображала нагую темноликую женщину с круглыми расставленными, как вымена, грудями, мясистыми лядвиями и вывернутыми натруженными ступнями храмовой плясуньи. Была она черна, потому что являлась проходом сквозь пустоты как внутреннего, так и внешнего пространства, чернота ее содержала в себе все цвета мира, она поглощала все, что когда-либо было сотворено. Женщина была нага, потому что мы наги изначально, все исторгнуто наготою и в наготу канет. Над бровями разгневанной женщины помещалось третье отверстое око — так она проявляла свою зоркую неделимую власть над троединством времени — прошлым, настоящим и грядущим. Женщины была четверорука, как север, юг, восток и запад. В левой верхней руке она сжимала меч, которым отсекала сомнения и нити зримой жизни, в нижней левой руке помещалась оторванная голова — так она являла свою неумолимость, верхняя правая кисть соединилась лепестками в охранительном жесте, которому нет названия на человеческом языке, а изогнув нижнюю правую руку она потрясала жертвенным ножом — кхадгой. Все украшение нагой состояло из гирлянды черепов и подкрашенных алым литых цветов. Пляшущими крепкими ногами, она, словно давильщица гроздьев гнева в винограднике Сатаны, попирала труп цветущего юноши, украшенного и взлелеянного до предела телесной пышности, как тучный жертвенный телец, возложенный на вязанки погребального костра, окруженный лепестками пламени. А бесноватый язык дьяволицы, красный, как стручок жгучего мадьярского перца, был вывален далеко меж умащенных грудей, как у прожорливой висельницы или льва рыкающего, ищущего, кого поглотить.