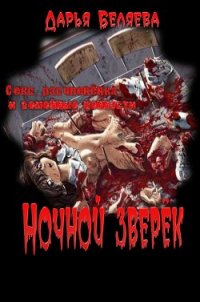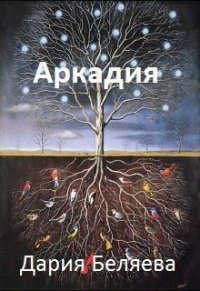Красная тетрадь - Беляева Дарья Андреевна (хорошие книги бесплатные полностью txt, fb2) 📗
Тогда мама стала говорить:
– Ну хоть голоса не слышит, уже умница.
Ванечка знал, что мама очень его любит. Однажды, конечно, Ванечка играл со спичками и случайно поджег сарай. Тогда мама не любила его, но всего лишь до ужина, а за ужином он подавился костью от селедки, долго кашлял, и мама снова его полюбила.
Сейчас Ванечке захотелось поджечь поле.
Так бы он спас все колоски. Красная машина тогда не приедет и не порубит их, и колоски будут все свободны, не станут хлебом, а останутся самими вот собой.
Такими, какими их создал Бог. Про Бога некоторые в деревне говорят. В деревне говорят, что у Бога холодный нос и он все знает. Почему так говорят, этого Ванечка не понимал.
Он спросил у папы, и папа ответил:
– А они уже и сами не помнят. Это все о червивых временах. Нечего и задумываться. Даже вредно.
Ванечка так и не понял, почему думать о Боге вредно.
А как бы поле горело – охваченное огнем, стало бы рыжим, а черный дым пролег бы между землей и небом. Красиво.
Ванечка ел хлеб и смотрел на небо. От жаркого солнца ему захотелось спать и одновременно с тем заболела голова.
Я думаю, он получил солнечный удар. С маленькими детьми это случается так легко.
Потом Ванечка понял, что съел половину батона, и теперь ему обязательно надо идти обратно, в кармане есть еще монетки, чтобы купить полбатона хлеба. Теперь все начнется заново, опять пыльная дорога, и магазин, и мармеладка.
Зато хлеба Ванечка принесет столько, сколько нужно, и совсем не меньше.
Он поднялся, и голова у него закружилась. Пришлось упасть обратно.
Ванечка лежал в поле, раскинув руки, и смотрел в синее небо. Колосья пшеницы кололись, будто кусались за то, что Ванечка их примял. А те, что остались целыми вокруг него, склоняли к нему свои головки, словно врачи над пациентом, лежащим на операционном столе (видал Ванечка и такие сны).
Ванечка хотел что-то им сказать, но уже очень устал.
Он закрыл глаза и увидел меня.
За много лет до нашей встречи он увидел меня через много лет после нашей встречи! Так странно!
Сначала – будто со стороны. Ванечка меня еще не знал (но знал, что узнает).
Я сидел за пустым столом в странном месте, таком светящемся и разноцветном. Он видел меня всего пару секунд, чьими-то еще глазами, откуда-то сбоку, а потом стал мной.
Далее я буду вести повествование в настоящем времени, от самого себя из будущего, чтобы стало понятнее, как я все ощутил.
Вокруг меня шумно и странно, как всегда бывает после победы.
Я очень устал, но что-то держит меня в этом странно освещенном зале. Больше всего на свете мне хочется остаться одному, затянуть на горле ружейный ремень и попрощаться с этим днем по крайней мере до завтрашнего утра.
Я думаю: забавно, до чего же штампованным алкоголиком я мог бы стать. Но на столе передо мной стоит только стакан апельсинового сока.
И торт! Настоящий красивый торт с кремом. Нынешний я с радостью бы съел такой торт, пусть даже это очень вредно для зубов и надо во всем соблюдать меру, особенно в потреблении сладкого.
А вот во сне торт остается нетронутым. Даже шоколадные капельки на нем.
Взрослому мне совсем не хочется есть.
Я сижу в этом странно освещенном месте, разноцветном, ярком, и, в то же время, искалеченном. Сквозь дыру в крыше внутрь заглядывают звезды, впрочем, куда менее яркие, чем разнообразные источники света вокруг.
Я знаю, что мы здесь ненадолго, и знаю, что завтра мы улетим. Я устал, но работа сделана хорошо. Всюду в городе, куда ни глянь, следы разрушений, паника, но это временное состояние, пусть и печальное.
Мы улетим, останется армия для поддержания порядка, а следом начнется другая жизнь, потихоньку следы войны будут убраны, затянутся шрамы. Конечно, многое изменится, общество ломается сложно, как кость, но, если зафиксировать его правильно, все срастется.
Здесь мне почти хорошо, ведь сегодня я не делал вещей, которые делать по-настоящему тяжело, за которые я так сильно себя ненавижу, и без которых в то же время не обойтись.
Нет, таких вещей я не делал. Хорошо, что я не делал их сегодня. Но завтра, может быть, мне придется.
Поэтому мне не хочется пить сок и есть торт.
На сцене я вижу Борю. Он в расстегнутой шинели, залитый разноцветным светом, играет на фортепиано. В голове у Бори дыра, череп пробит, влажно поблескивает мозг. С одной стороны его шинель залита черной кровью, и вязкие темные капли еще падают на плечи, когда Боря берет особенно резкие аккорды.
Он играет «Катюшу», песню, будто бы совершенно не подходящую для фортепианного исполнения. Боря играет быстро, задорно, его пальцы невероятно ловко скачут по клавишам. Иногда он наклоняется низко-низко, иногда, наоборот, весь выпрямляется, будто примерный ученик музыкальной школы, но руки его пляшут над клавишами все с той же горячностью и страстью.
И до чего у него выходит артистично!
На крышке фортепиано стоит бутылка водки с красной этикеткой и кусок торта на маленькой тарелочке. Иногда Боря поглядывает на бутылку и торт с предвкушением и делает это вычурно, по-клоунски гротескно и артистично.
Песня льется из-под его рук свободно и звонко, он явно наслаждается своей игрой. Мне тоже нравится, как у него получается. И все-таки я думаю: до чего это плохая идея.
Люди здесь перепуганы: это их планета, а мы – чудовища, привезенные сюда специально для того, чтобы разрушать.
Может, здесь раньше был танцевальный клуб, или театр, или бар, я не очень разбираюсь в местной культуре. Сегодня людям совсем не до праздника, хотя судьба у этой планеты куда более завидная, чем у многих других.
Среди молодых девочек и мальчиков, которым здесь самое место, есть и люди старшего возраста. Быть может, они оказались здесь случайно: прятались или забрели сюда в прострации, которая наступает, когда основная часть представления, как это называет Боря, окончена.
У многих есть ранения. За столиком рядом с моим сидит женщина, из чьей щеки торчит крупный осколок стекла. Она смотрит на сцену, как зачарованная. Шок не дает ей осознать ни боль, ни страх.
Я хочу ей помочь, но она отшатывается от меня, прикрывает осколок ладошкой, словно бы он ей нужен, дорог и необходим.
Если присмотреться, здесь вообще много крови. Я надеюсь, по крайней мере, что трупы уже вынесли.
Боря подбивает в песне последний аккорд, встает и по-клоунски раскланивается.
Его милое, отчаянно симпатичное лицо, залитое кровью, ухоженная прическа, испорченная дырой в черепе, испачканная шинель, блестящие ботинки – до чего кабарешно он выглядит, будто красивый актер после спектакля, в котором его персонаж трагически погибает.
Боря берет бутылку водки, с треском откручивает красную крышечку и делает долгий глоток. Все это, как Боря любит говорить, искренняя игра на экспорт, аврорианская экзотика, архаичная, с земляным привкусом, но в достаточной степени комедийная.
Я вздыхаю. Боря садится на край сцены, хватает торт, по-клоунски перемазавшись кремом, откусывает кусок. На белый крем капает красная кровь. Все это очень похоже на абсурдный сон.
– Товарищи! – говорит Боря, в три укуса закончив с тортом. – Благодарю за теплый прием.
Он вытаскивает из кармана сигарету, самую простую, аврорианскую сигарету, тоже очень архаичную, наклоняется к кому-то в первом ряду, всем телом, с сигаретой в зубах.
– Эй, красотуля, огоньку не найдется?
Ему подкуривают, и Боря, затянувшись, говорит:
– Никогда не привыкну к этим автоматическим переводчикам. Вдруг мои слова сейчас для вас звучат как-то неточно? Вдруг потеряется соль шутки? Не знаю, не знаю, легче, как в старые добрые времена, не понимать друг друга ни хрена.
Сигарету Боря тушит о рану в голове, прямо об обнаженный мозг, раздается шипение, красный окурок летит Боре за спину.
Он говорит:
– Есть у меня один знакомый, Эдик, любит всю эту байду про эволюцию. Эволюция – набор случайностей, выглядящий, как осмысленный процесс, и вся такая хуета подобная.