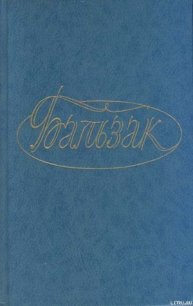Эксцессия - Бэнкс Иэн М. (книги серии онлайн txt) 📗
Он ехал навстречу лавине, не в силах остановить фуникулер.
Котлован заполняло белое мягкое облако сорвавшегося с вершин снега и разбитого в пыль льда, оно медленно оседало мириадами сверкающих блесток.
Двигатель лебедки еще работал, издавая высокий, скрежещущий звук. Горные машины остановились. Он выпрыгнул из кабинки фуникулера и побежал к уцелевшим. Они скопились у склона.
Я днаю, что случилось, думал он во сне. Я знаю, что случится потом. Я помню боль. Я вижу девочку. Почему я не могу остановиться? Почему я не могу проснуться?
Он никогда не успевал добежать. Каждый раз трос не выдерживал тяжести заваленных снегом вагонеток, лопался где-то за спиной со звуком, похожим на выстрел, с шипением рассекал воздух и пропарывал склон, словно исполинский кнут.
Комендант кричал людям на склоне, и споткнувшись, падал лицом в снег.
Только один инженер успевал отпрыгнуть.
Остальных разрезало тросом ровно пополам, словно косой, оставляющей за собой след из кровавых брызг. Петля троса сметала двигатель канатной дороги, с душераздирающим визгом и грохотом наматывалась на барабан лебедки, словно пытаясь удержать то, еще что не рассыпалось. Остальные кольца, которым не нашлось места на барабане, тяжело падали в снег.
Что-то ударило его в ногу, что-то увесистое, как кувалда, круша бедренную кость, захлестывая сознание потоком боли. Удар прокатился по телу, и он упал, теряя сознание. Когда он очнулся, ему показалось, что прошло полдня. Со стоном он опустил голову в снег и тут же очутился лицом к лицу с тем, что его ударило.
Это было одно из тел, которых смахнуло тросом со склона, один из трупов, вырванный, как гнилой зуб, с отшлифованной поверхности ледника в это утро. Это был мертвый свидетель, так и не превратившийся в пепел и дым. То, что ударило по нему, сломав ногу, было одним из тех сотен тел, аккуратные штабели которых укладывали в ледник рабочие. Один из врагов Расы, которых тысячами уничтожали на свежезавоеванных территориях.
У коменданта перехватило дыхание: он смотрел в замерзшее лицо и с усилием глотал воздух. Коменданту хотелось кричать. Это было лицо ребенка, маленькой девочки.
Снег обжигал ему кожу. Дыхание не возвращалось, застряв где-то на полпути между легкими и диафрагмой. Он корчился от боли в сломанной ноге.
Но глаза его оставались неподвижны.
Почему это случилось со мной? Почему я не могу сказать “нет” этим снам? Почему я не могу проснуться? Откуда вылезают эти кошмары?
Затем боль и холод ушли, оставив его на растерзание другому холоду. Он вдруг почувствовал, что… думает. Думает обо всем, что случилось. И видит это совсем иначе, чем видел прежде.
…В пустыне мы сжигали их на месте. Никаких сантиментов. Похоронить в леднике? Видимо, приступ романтики. Предать земле. Пусть их навсегда спрячет ледяное покрывало. Тела сохранятся веками, но их никто не сможет найти. Вот что мы имели в виду. Или наши вожди начали верить в собственные враки о том, что их законы продержатся еще сотни и сотни лет? Разве могли они предвидеть, что целые озера разольются под непрочной коркой тающих ледников, и все эти столетия поплывут, как баржи, перегруженные телами, высвободившимися из ледяного плена. Беспокоило ли их вообще, что подумают о них потомки?
Истребляя все живое, как они собирались защитить будущее, заставить любить себя, свое дело?
…В пустыне мы сжигали их на месте. Они выходили длинной цепью из пылающего огня и удушающей пыли, а тем немногим, кто не задохнулся в черных грузовиках, мы устраивали обильный и смертоносный водопой; они знали, но никто не мог противиться жажде в те знойные дни, когда смерть постепенно брала верх над жизнью.
Они пили отравленную воду и умирали. Мы сжигали их тела в солнечных очагах, мы приносили жертву ненасытным божествам Расы и Чистоты. И в самом деле виделась нам чистота в том способе, которым они уходили с лица земли, словно такая смерть придавала им ореол благородства, которого им никогда было бы не достигнуть в своей низкой, вырожденческой жизни. Их пепел оседал на барханах, его уносило первым порывом ветра.
Последними в печи загружались лагерные рабочие – уже усыпленные газом в своих бараках, – и бумаги, документация: все приказы, заявки на материалы, складские квитанции, файлы, папки, заметки и мемо, служебные записки. Большая часть наших личных дел также ушла в дым. То, что мы позволили себе сохранить, искали старательно, тщась убрать малейшее пятно грязи с наших мундиров, так, как не очистят ни в одной прачечной.
Мы разделились и двигались к своим участкам завоеванных территорий. Воссоединение не поощрялось.
Я думаю когда-нибудь написать обо всем, что происходило тогда – не признание, но объяснение.
И мы страдали. Нам приходилось нелегко. Не только физически – хотя условия были не из легких, – и все же основная нагрузка ложилась на разум и чувства. Были среди нас, может быть, и скоты, и чудовища, гордившиеся тем, что они делают (возможно, за все это время мы уберегли улицы собственных городов от многих убийц и маньяков), но большинству довелось изведать, что такое агония. В самые тяжкие мгновения нашей жизни мы удивлялись: неужели мы в самом деле сделали все это? Хотя где-то глубоко внутри точно знали, что сделали.
Поэтому многим из нас снятся кошмары. Мы еженощно видим то, в чем принимали участие. Мы видим боль и ужас.
Что касается тех, от кого мы отделались… Их муки проще. Они, конечно, растягивались на многие дни, может быть, даже на месяцы, но, в конце концов, все решалось быстро и эффективно. Мы заботились об этом своевременно. Мы, можно сказать, избавили их от дополнительных мучений.
Наши же страдания растянулись на целое поколение.
Я горжусь тем, что делал. Я не хотел бы делать это снова, но я рад, что делал все, что от меня зависело.
Вот почему я хотел бы написать обо всем, что случилось: свидетельствуя о нашей вере и самоотверженности. И о наших страданиях.
Но я так и не написал. До сих пор.
И этим я тоже горжусь.
Он проснулся и почувствовал у себя в мозгу постороннее присутствие.
Он вернулся в настоящее, вернулся в свою спальню в санатории у самого моря и мог видеть, как солнечный свет скользит по кафельной плитке балкона. Его сдвоенные сердца стучали, чешуйки вставали на спине, покалывая. Нога ныла, отдаваясь болью того давнего ранения на леднике.
В этот раз старый сон оказался ярче и подробнее, чем прежде. Такого еще не было, к тому же, в этот раз он все-таки добрался до ледяной лавины на западном склоне. Обычно все заканчивалось еще на канатной дороге. Но мало ли что было на той войне. На войне с гражданским населением. Эти воспоминания были погребены под тяжестью жутковато-белого снега, вместе с чувством незабываемой боли. Тогда ему впервые в жизни пришлось испытать такую резкую, острую боль, и память со временем позаботилась о том, чтобы лишить его этого крайне неприятного воспоминания. Впрочем, сон есть сон. Чего только не всплывет из подсознания. Обычное дело. Ему же говорили, предупреждали – будут кошмары. Но никто не говорил о том, что каждую ночь он будет смотреть в лицо мертвой девочке.
Он вдруг обнаружил, что думает, что-то кому-то объясняет, даже доказывает… Оказывается, он прекрасно помнит, что делал там, в армии, где провел большую часть своей жизни.
И теперь он явственно чувствовал постороннее присутствие у себя в мозгу.
Что бы это ни было, оно внезапно заставило его закрыть глаза.
– И последнее, – сказал голос. Это был глубокий, явно привыкший повелевать голос, он произносил слова отчетливо и внятно.
Последнее? – подумал он. (Что происходит?)
– У меня есть правда.
Какая правда?
– Правда о том, что вы делали. И о том, что делали ваши люди.
Что?
– Правда осталась на месте. Она выжила в пустыне, где песок запекся в крови. Она проросла сквозь ил на дне озер, и ей нашлось место в летописях. Внезапное исчезновение предметов искусства, резкие перемены в архитектуре, не говоря уже о сельском хозяйстве. Нашлось несколько книг, документов и фотографий, которые противоречили переписанной истории. Ваши учебники не могли объяснить, отчего такое множество людей исчезло столь внезапно, без единого признака ассимиляции. О чем вы?