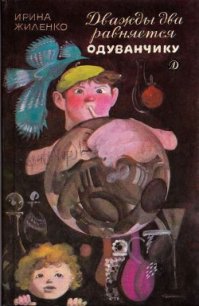Вторжение в Империю - Вестерфельд Скотт (читаем книги TXT) 📗
– Конечно, – прервал ее размышления Найлз, – процесс, к которому ты привыкла, не настолько прям, как приказ идти на смерть.
Оксам кивнула. Спорить по этому вопросу у нее не было сил.
– Я надеялась, что ты подбодришь меня, Роджер, – вздохнула она.
Он откинулся на спинку дивана.
– Я уже говорил тебе, Нара: ты поступила правильно. Политический инстинкт, как обычно, не подвел тебя. И очень может быть, что совет действительно принял верное, с военной точки зрения, решение.
Она покачала головой. На ее взгляд, «Рысь» обрекли на гибель без достаточно веской причины.
– Но я хотел сказать тебе вот что, – продолжал Найлз. – Тебе и раньше случалось заниматься подобным.
– То есть – торговать жизнями людей.
Найлз скользнул взглядом по небу, перевел его на огромный город.
– Наш бизнес называется «власть», сенатор. А власть на этом уровне решает такие вопросы, как жизнь или смерть.
Нара вздохнула.
– Ты думаешь, они все погибнут, Роджер?
– Экипаж «Рыси»? – осведомился он.
Старый советник не спускал глаз с Оксам. Солнце коснулось его седых волос и сделало их по-мальчишески рыжими. Оксам понимала, что тревога ясно читается на ее лице.
– Это Лаурент Зай, да?
Оксам опустила глаза. Лучшего ответа не требовалось. Она понимала, что рано или поздно Найлз догадается. Он знал, что возлюбленный Оксам – военный, а возможностей для знакомства с военными у сенатора-секуляриста не так уж много. Партии, представленные в Сенате, были, что называется, «на карандаше», но, кроме этого, вокруг них действовала неформальная информационная система – сплетни, анонимные агенты и так далее. И все сведения об особо важных персонах, поступавшие из этих источников, попадали в средства массовой информации. Взволнованная и очень личная беседа новоизбранного сенатора и возвышенного героя, какой бы краткой они ни была, не могла остаться незамеченной.
Все сомнения, которые мог испытывать Найлз, исчезли бы, раскопай он тот давешний разговор. И ему стало бы ясно, почему Нару так тревожит судьба «Рыси».
Она снова вздохнула – на этот раз еще печальнее. Теперь ее ближайший соратник знал, что она проголосовала за смерть своего возлюбленного.
Найлз склонился ближе к ней.
– Послушай, Нара: будет безопаснее, если они все погибнут в бою.
Оксам впилась взглядом в Роджера. Ей очень хотелось прочесть его мысли, но это было сложно, поскольку ей пришлось повысить дозу антиэмпатического лекарства для путешествия по городу, где все и каждый были обуреваемы жаждой войны.
– Безопаснее? – наконец сумела выговорить она.
– Если Воскрешенный Император узнает о том, что один из членов военного совета имел личные переговоры с полевым командиром – тем самым, который отверг «клинок ошибки», – то этому члену совета отрубят голову и выставят ее на шесте на всеобщее обозрение.
Нара сглотнула подступивший к горлу ком.
– Я защищена привилегиями, Найлз.
– Как и всякий юридический конструкт, Рубикон – это фикция, Нара. А у любой фикции есть свои пределы.
Оксам в ужасе посмотрела на старого друга. Рубикон был основой фундаментального разделения власти в Империи Воскрешенных. Святыней.
Однако Найлз продолжал:
– Ты играешь на два фронта, сенатор. А это – опасная игра.
Она хотела было ответить, но тут у нее в ушах зазвучал мелодичный звон – сигнал к началу военного совета.
– Мне нужно идти, Найлз. Война зовет меня.
Он кивнул.
– Вот именно. Постарайся не стать ее жертвой, Нара.
Она печально улыбнулась.
– Это война, – сказала она. – Люди гибнут.
Здесь, посреди тундры, Рана Хартер была счастлива.
Для того чтобы она сумела осознать это чувство и дать ему название, ей понадобилось несколько дней. До встречи с риксом радость приходила к ней краткими, почти неуловимыми вспышками: на те несколько секунд, когда закат купал небеса в запахе ромашек, когда мужчина дотрагивался до нее, но его прикосновения еще не становились грубыми; в те считанные мгновения, когда она слышала пение победных труб и ощущала во рту привкус меди – символы того, что «компьютер» в мозгу у Раны заработал. Только в эти моменты мир представал перед ней четко и ясно. Но то счастье, которое она ощущала теперь, почему-то не проходило, оно просыпалось вместе с Раной каждое утро и не покидало ее на протяжении бесконечно долгих ночей, проведенных рядом с Херд. Это постоянство не переставало изумлять Рану.
Радость казалась ей совершенно незнакомой – теперь, когда она смотрела на нее по-новому. Так выглядят для тебя кончики собственных пальцев, когда их разглядываешь под микроскопом. Теперь Рана понимала, что счастливые мгновения ее прошлой жизни были пустыми, надуманными. Подобно диким просторам тундры, простиравшимся во все стороны до самого горизонта, радость прежде всегда ускользала от нее, не давалась в руки, не позволяла себя удержать, проносилась стремительным проблеском по тусклому фону ее жизни. Лишь краем глаза успевала Рана заметить ее. Она стыдилась своих способностей, ее пугал мир прекрасной, но жестокой природы холодной родной провинции, ее смущали наслаждения, которые приносила близость с мужчинами. Но теперь Рана стала непосредственной свидетельницей собственного счастья, смотрела на него через увеличительное стекло одиннадцатичасовых легисских ночей, когда Херд была свободна от дежурств.
Рана Хартер обнаружила у радости новые грани. Она могла высыпать на стол чайную ложку сахарного песка и считать песчинки. Она могла часами слушать стонущую песню беспрерывного полярного ветра, пробующего на прочность стены дешевого сборного домика, который они с Херд взяли внаем. Даже процедуры, которые Херд упорно проводила с ней каждый день, – бритье, стрижку волос и обрезание ногтей, взятие слюны и обдирание кожи – все это приносило Ране острое удовольствие. Ловкие руки рикса, ее щебечущий выговор, ее странные птичьи движения бесконечно зачаровывали Рану.
Рана знала, что Херд пичкает ее наркотиками и что ощущаемая ею радость навязана, вызвана лекарством, а не течением жизни. Она понимала, что, по идее, ей следовало бы пугаться того, что она живет взаперти, а рядом находится жуткая инопланетянка. Как-то раз Рана даже попробовала убежать – просто из абстрактного чувства долга перед милицией и родной планетой, из-за страха перед тем, что в один прекрасный день рикс может пожелать от нее избавиться. Ране удалось одеться. Ткань ее прежней одежды больно царапала раздраженную кожу. Чтобы не замерзнуть, пришлось напялить на себя все, что было в доме. Единственное теплое пальто Херд надевала, уходя на работу в центр связи. Когда Рана распахнула дверь домика, внутрь хлынул страшный холод изголодавшейся тундры. Вид полярных пустошей отбил у Раны всякую охоту к свободе. Он только напомнил о том, какой бесцветной была ее жизнь раньше. Она закрыла дверь и прибавила мощность обогрева, чтобы в доме стало теплее после притока морозного воздуха. Только потом она сняла с себя всю одежду. Она не могла уйти.
Но здесь, в домике, Рана никогда не чувствовала себя побежденной, проигравшей. Почему-то в плену ее разум как бы освободился. Казалось, те участки мозга, где обитал ее талант, избавились от постоянного угнетения и наконец обрели возможность развиться в полном масштабе.
Ране нравилось обучать Херд северному легисскому диалекту. В то время когда рикс, захватившая ее в плен, уходила, чтобы играть ее роль, Рана часами строила схемы основных грамматических структур, заполняла воздушный экран столбцами склонений, окружала их архипелагами сленга, говоров и исключений. Ее ученица схватывала все на лету, продвигаясь с каждым днем. Плоский, нейтральный акцент Херд постепенно наполнялся округлыми гласными северных провинций.
Рана требовала, чтобы Херд тоже делилась с ней знаниями, уверяла в том, что знание риксского языка поможет ей как учителю. Рана тоже все быстро усваивала, а когда поздно вечером они заводили разговор, Рана засыпала Херд вопросами о ее воспитании, верованиях и жизни в рамках культа риксов. Поначалу Херд противилась этим попыткам Раны наладить дружественные отношения, но потом, похоже, длинные холодные легисские ночи сломили ее. Очень скоро беседы пленницы и захватчицы стали постоянными и двуязычными, причем одна говорила на языке другой.