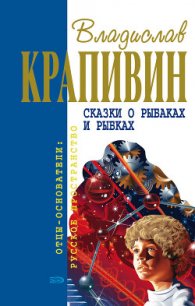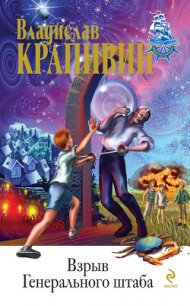В глубине Великого Кристалла. Том 2 - Крапивин Владислав Петрович (книга бесплатный формат TXT) 📗
— А бывает обет, чтобы наоборот? Ну, чтобы не в уплату за какую-то милость, а просто так…
Точнее выразиться я не умел. А думал вот что. Если человек верит в Бога (я-то не верил, но сейчас речь не обо мне, а вообще), то он должен делать ему что-то хорошее не ради выгоды, а просто так, из любви. Чтобы радовать его… Хотя, с другой стороны, зачем Богу, его Сыну и Божьей Матери игрушечный кораблик? Ведь им стоит лишь пожелать, и появятся миллионы всяких кораблей, хоть из чистого золота… Да, но ведь маме, если по правде говорить, тоже не нужны были картонные домики, которые я склеивал и разукрашивал к ее дню рождения и к Восьмому марта. А она все равно радовалась. Потому что подарок, потому что я для нее старался. Потому что основное в подарке… любовь. Да…
И Эльза Оттовна, кажется, опять поняла меня:
— Конечно, можно и так, Петя… Главное, когда от души… — Потом снова спросила со вздохом: — Ну а как же с хором-то, а?
Я вновь ожесточился:
— Не знаю… Никак. Без галстука я на сцену не выйду.
— Я тебя понимаю… Но и ты пойми… И тебе плохо без хора, и нам без тебя плохо…
— Я тоже понимаю… — И опять я отвел намокшие глаза.
— Видишь, оба понимаем друг друга. А договориться не можем… Будто идем параллельными тропинками, а сойтись не получается.
— Потому что параллельные не пересекаются…
— Иногда, Петя, пересекаются.
— Ну, это только в бесконечности. Не в нашем мире.
— О! Ты знаешь и это? Слышал про геометрию Лобачевского?
Я слышал. От соседки Насти. Она была худая очкастая отличница и хотела сделаться математичкой. Но тот наш разговор начался не с математики. Несмотря на всю серьезность, Настя, как мальчишка, увлекалась марками. Мы иногда вместе разглядывали свои коллекции, менялись и даже спорили. И вот я увидел у нее серую марку с незнакомым портретом и подписью: «Н.И. Лобачевский».
— Это кто? Моряк?
— Это ученый.
— А почему в мундире?
— В старые времена в университетах профессора носили мундиры… Он знаменитый математик. У него труд есть «Теория параллельных линий», я недавно читала.
Я хихикнул:
— Чего там про них сочинять-то, про параллельные линии?
— А ты что про них знаешь?
Геометрию я, конечно, еще не учил, но про параллельные знал из книжек.
— Это такие, которые тянутся рядом друг с дружкой. На одинаковом расстоянии, как рельсы. И нигде не пересекаются. — И я вспомнил, как мы в прошлом году с мамой ходили в ближний лес за грибами.
— А вот и пересекаются! — торжественно заявила Настя.
— Врешь! Тогда они, значит, не параллельные!
— Ты рассуждаешь с точки зрения Евклида. А у Лобачевского своя наука. Параллельные могут пересекаться, только очень далеко, в самой бесконечной бесконечности, где искривляется пространство.
— Как это?
Она стала объяснять и, по-моему, запуталась сама. И я, конечно, ничего не понял. Но поверил. Показалось, будто уловил что-то. Потому что вспомнил: рельсы ведь тоже соединялись в одну точку — далеко-далеко, у горизонта, когда их догонял взгляд. Взгляд — это когда глаз ловит прилетевшие издалека лучи света. От той точки, где соединились рельсы. А если приближаешься, они раздвигаются. И ты видишь это — потому что свет опять прилетает к тебе. Со своей сумасшедшей скоростью… Говорят, эту скорость никак-никак никому не обогнать, закон такой есть научный. Ну а если представить, что все же обогнал! Примчаться к точке, где соединились рельсы, быстрее света! Тогда они, значит, не успеют разойтись! И получится, что параллельные сошлись!..
Конечно, я не знал тогда, что этот ребячий бред, этот крошечный проблеск догадки — первый атом в громадной пирамиде Теории межпространственного вакуума. Той самой, на базе которой создана «Игла», прошивающая теперь многомерные миры… Тогда я сказал Насте: «Ладно, я пойду» — и ушел поскорее, потому что главным в моих мыслях было в тот момент все же воспоминание о маме: как мы идем вдвоем по рельсовому пути. Впрочем, и сейчас, в разговоре с Эльзой, тоже…
Я сказал сумрачно:
— Пускай хоть какая геометрия… а без галстука петь не буду. Я… себе слово дал. — Это я лишь сию секунду выдумал, но, чтобы отрезать все пути, сказал тут же мысленно: «Честное орлёнское».
— Вот, выходит, как. Значит, обет дал такой?
Я уклончиво промолчал: при чем тут это? Но… может, и правда обет. Не только себе самому обещание, но и… Вспомнился подвал, доска с жестяными нимбами. Вот так все сплелось в жизни.
— Ну а ко мне-то зайдешь в гости? — спросила Эльза Оттовна.
— Ладно, — прошептал я.
Она ушла. А я нашел среди дров другой кусок сосновой коры, большой, плотный, и стал вырезать новый кораблик.
Я мастерил модель все следующие дни. Даже тогда, когда зубрил билеты для экзаменов по русскому языку и устной арифметике. В школе никто меня больше не трогал. Экзамены я сдал средне: письменные на четверки, устные на тройки. Но это не из-за придирок, просто я всегда так учился. Тетушка из-за троек разворчалась и опять упомянула про детдом. Скорее всего, просто пугала. Но мне уже было все равно. Я твердо знал, что будет скоро.
Через несколько дней доделаю кораблик и унесу туда. Это будет мой подарок, мое прощание. И просьба помочь мне в пути… Ну и что же, что не верю? Мама-то верила. Значит, есть какие-то сила и справедливость… А потом — в дорогу.
До города Дмитрова (я посчитал по карте) — полторы тысячи километров. Если шагать по шпалам пятнадцать километров каждый день, понадобится сто дней. Лето и кусочек сентября. В такую пору ночевать можно где придется и топать налегке. А иногда можно ехать и на попутных товарниках. Про это немало книжек и кино. Добрые люди на пути всегда угостят куском хлеба, не дадут пропасть мальчишке… А то, что догонит и поймает милиция, — это сказки. Разве отыщешь маленького пацана среди пространств громадной страны?
Как меня встретит отец, я не очень задумывался. Наверно, не прогонит. Сам же написал тогда: «Сын ведь…» Да и вообще конечная цель представлялась мне такой далекой… ну, как бесконечно удаленная точка, где сходятся параллельные линии. Главным делом казалась мне теперь сама Дорога — с ее неожиданностями, встречами, новыми местами, приключениями. Я понимал, конечно, что порой придется нелегко. И тогда:
Ничего, одолею…
Теперь странным кажется, что не появилась у меня простая мысль: написать отцу. Нет, я ничего не боялся, просто в голову такое не приходило. Наверно, это странности мальчишечьей психики. Не думал я и о том, что отец много раз мог сменить адрес: ведь письмо-то он прислал в сорок шестом, а сейчас на дворе был пятидесятый…
Спокойно и как-то просветленно готовился я в путь. Заранее уложил в портфель сухари, полотенце, запасную майку и трусы, кружку, ножик, туго свернутую суконную курточку. И любимую, мамой подаренную книжку «Пять недель на воздушном шаре». В эти дни я старался быть послушным, с тетей Глашей вовсе не спорил. Не потому, что вдруг полюбил ее, а словно чувствовал: незачем брать с собой груз всяких обид и грехов, даже мелких. Зашел как-то к Эльзе Оттовне, но соседка сказала, что она хворает, сейчас уснула и тревожить ее не надо.
Вальке Сапегину я отдал на память свою коллекцию марок. Объяснил, что наскучило собирать их. А о предстоящей Дороге не сказал, конечно. Валька, он хороший, но, когда начнут искать, не выдержит, расскажет. Хотя бы для того, чтобы опять увидеться со мной.
Потом я отыскал Турунчика и подарил ему свой оловянный пистолет. Очень Турунчик удивился, замахал белесыми ресницами. Никогда ведь мы не были приятелями.
— Спасибо… А почему ты… мне?
— Нипочему. Так, — вздохнул я.
Чувствовал, что виноват перед ним. Даже не только перед ним, а вообще. И этот грех (пожалуй, самый крупный в своей жизни) мне тоже не хотелось уносить с собой.