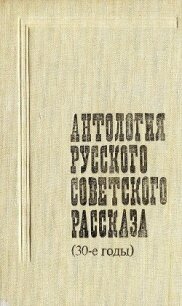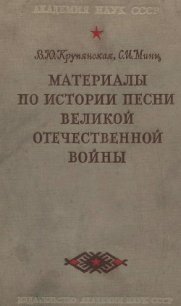Советская фантастика 20—40-х годов (антология) - Грин Александр Степанович (книги онлайн читать бесплатно TXT, FB2) 📗
И отходит от аппарата управления…
…Он увидал комнату, окно, замазку, два свертка с ватой, продырявленную, побуревшую газету «Известия», горшок с ростком «пенсива».
Сон? Обморок? Видение? Галлюцинация, вызванная странным и, возможно, вредным запахом, источаемым листвою «пенсива»?
Он хварывал не однажды. Случалось, бредил. И он-то знал, что такое бред, эта шальная, беспорядочно-дрыгающая смена картин и представлений.
Здесь же, наоборот, перед ним плавно, ярко и не спеша, совершенно правдиво развивалась картина, которую и сейчас он и видит и помнит отчетливо. Все части этой картины соединены в стройный лад, как хорошо сходятся без щелей пригнанные доски. Он мог бы, будь художником, сделать четкий рисунок того, что только что видел. Да и зря, что ли, он вернулся за тушью? Нет, это не бред, это было! И он вернется туда, чтобы начертать на бумаге самолет и вообще узнать, чем же там кончилось дело при садах «пенсива», хотя сады и расположены очень далеко и глубоко под сражающимися.
Вошла бабушка, поправляя на плечах шаль. Она внесла на тарелке очищенные луковицы, которые с картошкой любил есть Николай Михалыч. Картошка сварилась. Неужели? Ведь, когда он наклонился к дымке «пенсива», картошку только еще чистили. Неужели он простоял возле «пасмурного листа» свыше часу? Да! Часы подтверждали.
— Спасибо, бабушка. Кушайте. Мне не хочется. Разве попозже, — сказал он, растирая тушь на фарфоровой тарелочке и осматривая готовальню, оставшуюся от занятий на курсах повышения квалификации. — Вы кушайте, кушайте, я через часик!
Прибежал самый младший из детей. Ему понадобился молоток и гвозди. Николай Михалыч нашел ему гвозди, дал молоток и опять остался один. В соседней комнате старушки, скромно почавкивая, ели картошку.
Николай Михалыч взял тушь, чертежный прибор и подошел к «пенсиву».
Он не очень был доволен собою. Что за нелепая мысль — идти в будущее с тушью и чертежным прибором? Ну, возьми чернильницу, куда сподручнее. А, с другой стороны, почему сподручнее чернильница?
И это и то одинаково необходимо для одной цели: доказать самому себе реальность происходящего.
И он опять наклонился над горшком. Опять пахнуло мокрой землей, нагретой солнцем, опять пальцы коснулись краев горшка, и опять он увидал нежнейшую сердоликовую дымку. Сердце его сжалось. А вдруг ничего нет, вдруг ничего не увижу?..
…Обстановка изменилась. Противник перешел в наступление. Наши машины набирали высоту, вскачь поднимаясь навстречу противнику. Николай Михалыч пришел вовремя. Его приветствовали ласковыми улыбками и кивками. Он сел к аппарату управления перед лакированным розовым столиком. Бумага с пометками ждала его. Он вспомнил о своей туши и чертежном приборе. «Не зря же я уходил в Москву», — подумал он и бегло, наскоро сделал несколько набросков. Спутники замолкли, не желая мешать ему. И от этого он торопился еще более. «Плохо черчу, плохо, — шептал он. — Кабы не вскаяться».
Схема на двери бешено завертелась.
Николай Михалыч поднял голову, огляделся. Его спутники напряженно глядели вперед. Они перебрасывались короткими фразами, и Николай Михалыч только сейчас понял, что они говорят на языке, сильно отличающемся от того, на котором он говорил когда-то там… «Где там? — поймал он себя на огорчившей его мысли. — Почему там, если я одновременно и здесь, в моей Москве?» Впрочем, мысль эта была мимолетной. Он прислушивался к тому, что говорят его спутники.
Положение очень опасное. Противник хочет оцепить Землю, накрыть ее сплошным покровом, поглощающим лучи солнца. Если не помешать, через час, два, три солнце для Земли погаснет, и наступит вечная холодная и гибельная ночь. Все светлое и радостное, что существует на Земле, все то, ради чего трудилось и боролось в далеких веках человечество, ради чего умирало, страдало, лежало в ранах и болезнях, все погибнет. Вся прекрасная, утонченная, изысканная и миловидная Земля должна потухнуть! Силы зла тушат ее, тушат все подряд, начиная с букашки и кончая золотыми яблоками Гесперид.
Яблоки? Золотые его яблоки, ростки жизни, выведенные тогда, когда неистовый враг хочет растоптать его Родину, — разве и это должно быть растоптано, уничтожено?! Ах, чего ты раскаркалось, сердце!
Между тем небо приобретало зловещий оттенок мокрой глины. Холодела летательная машина. Дрожь пронзала тело Николая Михалыча. Небо густело. Швырком, похожие на деревянные клинья, метнулись сверху машины врага. Летательная машина Николая Михалыча качнулась и завибрировала… «Тушь как бы не пролить на столик, испачкаю…» — подумал он, чувствуя в левой руке роящуюся боль…
…Он отшатнулся.
Рукава его рубашки были засучены выше локтей. Левая рука, от локтя до пальцев, была разрезана. Кровь лилась в горшок, капала на свертки ваты, на подоконник.
— Дай-ка, бабушка, тряпочку какую, руку мне поранили! — крикнул он.
Выбежала бабушка, держа в руке картофелину.
Но когда она подошла к нему вплотную, раны уже не было. Она словно испарилась. Высохла и скрылась кровь. Только у самого локтя остался небольшой порез, и к тому времени, когда бабушка нашла тряпицу, исчез и этот след сражения при «пенсиве». Бабка недоуменно глядела на него. Николай Михалыч сказал:
— Дай-ка, если осталась, картошки.
— И лучку?
— Ну, и лучку, — сказал он. — Чего-то мне поесть захотелось.
И все-таки ел он плохо.
Окончив еду, он начал звонить в Тимирязевку. Долго он не мог добиться кабинета профессора Брасышева. И чем чаще он звонил, чем чаще гудел звонок, показывая, что телефон занят, тем теплее ему становилось. «Приехал, разговаривает, обсуждает факт», — думал он. Оказалось, что радовался он понапрасну. Приехал младший помощник Брасышева. Он весело крикнул в телефон: «Это ты опять, Катя?» И был очень огорчен, что серьезный мужской голос спросил его о профессоре Брасышеве и «пенсиве». Он ответил, что новых данных пока нет, что к этой экспедиции он лично имеет побочное отношение и что Брасышев вернется к концу лета. И, тяжело дыша, начал ждать у трубки звонка своей Кати.
«Куда же мне девать теперь росток?» — подумал Николай Михалыч.
Левая рука его, та, что была ранена, если это можно назвать раной, все еще, сжимала скомканную бумагу, которая в момент ранения лежала на розовом лакированном столике в кабине его летательного аппарата, там, у «тенет». Бумага сухо похрустывала. Он боялся разжать руку. А что, если просто клочок не заполненной ничем белой бумаги? А ведь он чертил! И его спутники почтительно смотрели на его чертеж, понимая, очевидно, по-своему происходящее… Пустой листок? А где же готовальня? Где фарфоровое блюдечко с тушью, захваченной им с собой «туда»? Ведь тюбик туши с серебристой бумажкой на кончике все еще лежит на подоконнике.
Ему мучительно захотелось проверить, что случилось с его аппаратом, да и что там происходит у «тенет», как себя чувствуют его спутники. Нехорошо, что он бросил их, да и подраться хочется, раз уж начал…
И он наклонился к листьям «пенсива».
Все семь яшмово-серых листьев развернулись во всю свою ширину. Оранжевая каемка исчезла. Исчезла дымка. Исчез и запах.
Он видел чисто вымытое стекло, московскую улицу, трамвай, автобус, толпу…
…И он сказал, обращаясь ко мне:
— Ну вот, вчера вздумал еще раз посмотреть. Не знаю и зачем, поощряя беспорядки. Сердце по сыну ныло… Думаю, утешит «пасмурный лист». А он и впрямь пасмурный. Молчит! Не удостоил, ничего я не увидал. Кроме нашей улицы. И запаха не было. Я даже, поощряя беспорядки, малость рассердился на свой «пасмурный лист»!
Мы сидели с ним на скамейке все той же малахитово-прелестной липовой аллеи. Смоляно-бурая дорожка подсохла, но возле скамьи осталась лужица, впрочем, узенькая: чуть вытяни ноги — и попадешь на сухое место. Николай Михалыч опустил, не замечая того, калоши прямо в эту лужицу мышиного цвета… Я сказал:
— Мое мнение, Николай Михалыч, что не стоит вам сердиться на «пенсив».
— Хочешь сказать: пригрезилось?