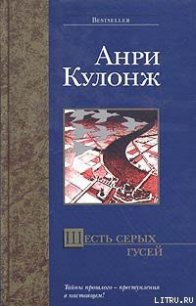Быстрые сны - Лиман Владимир (читать книги без сокращений TXT) 📗
Любовь и ненависть движет нами, и мы ничего не можем поделать, чтобы остановить эту бешеную пляску эмоций, которые, казалось бы, должны угаснуть за столько лет боли, смертей и унижений. Мы стали намного озлобленней, чем в те далекие годы, когда только входили в жизнь, стремясь улучшить ее. А насколько добрее нас теперешних, насколько чище люди, которые были рядом с профессором Дилом. Пусть они боялись смерти, а мы не боимся ее, но как они любили людей... А мы теперь способны лишь на ненависть. И она подавляет в нас те крохи любви, которые еще оставались в нас до того страшного дня, когда мы наткнулись на стену непонимания... Непонимание тех, ради которых ты готов отдать жизнь, что может быть страшнее? Страшнее может быть лишь любовь к тем, которых уже нет в живых... А у нас осталась лишь эта любовь - любовь к мертвецам. Любовь к умершим товарищам и любимым... Самое страшное, что мы думаем о них так, как будто они живы... Они живы, а все остальные мертвы... Мы любим их... А любили ли мы их тогда, когда они были рядом с нами?.. Сначала Мил, а потом Ини. Они любили меня, а я? Любил ли их я?.. Вот мы с Мил плывем к берегу, она смеется, плещет мне в лицо водой, и когда мы уже выходим на берег, со слезами обнимает меня и не говорит, а прямо бросает мне в лицо слова, бросает мне в лицо все наболевшее за эти два года, что мы вместе. Она говорит, что любит меня, и еще что-то о том, что я не способен на любовь. И я понимаю, что, действительно, хотя мы уже почти два года живем вместе, я за все это время ни разу не сказал ей о любви. Мне тогда было мучительно стыдно, но я так и не смог заставить себя сказать ей о том, как я ее сильно люблю... А потом? А потом было "Солнце", а после него уже ничего не было. Пожалуй, только в "Солнце" я по-настоящему понял, как я ее люблю... И это уже не оставляло меня все последующие годы, вот только Мил уже не было в живых...
То же самое было и с Ини. Впрочем, совсем не то. Ее смерть на моей совести. Я не должен был брать ее с собой. И если бы я ее действительно любил, то ни за что не взял бы ее с собой в тот вечер... Она была совсем еще девочка, я просто и представить себе не мог, что вот такой вот зачерствелый, холодный и замкнутый человек может стать ее парой. А она, оказывается, думала совсем иначе... Я узнал об этом уже потом, когда принес ее на базу. Камис сказал, что она оставила для меня записку, мне было достаточно первых строк, чтобы я пожалел о том, что стал читать ее объяснение в любви... Все, что там было написано, должен был сказать я, но так и не сказал. Ну, а что бы изменилось, если бы я все-таки успел сказать ей все это? Не надо было брать ее с собой, не надо. Но тогда я об этом даже не думал, я всегда брал ее с собой на самые рискованные вылазки... И мы всегда возвращались вместе. Всегда. Даже в тот самый последний раз...
Вот как раз то, что мне сейчас необходимо. Это полная уверенность, что моя жизнь уже давно не принадлежит мне. Она принадлежит им - тем, которые уже умерли, и тем, которые не должны больше умирать от рук мовов...
Руки мовов, эти грязные липкие руки, никогда не знавшие работы, привыкшие лишь к пистолету и стакану, умеющие лишь мучить и убивать... Вот они тянутся к моему горлу... Их сотни, тысячи, они по локоть в крови... Вот они уже сжимаются на моем горле и я не могу дышать... На меня наплывают их лица, тупые и безжалостные, кривятся их рты, пускающие слюни и ухмыляющиеся, предвкушающие садистское удовлетворение от чужой боли. Я хочу оттолкнуть их, но не могу найти собственных рук, я не чувствую их, но знаю, что они должны быть, ведь я совсем недавно держал в них информационный обруч... А вокруг темнота и тишина, ничего не вижу и не слышу, и чувствую лишь тупую боль в позвоночнике. Эта боль разливается по всему телу, и мне кажется, что это тело огромно, потому что боль чувствуется даже в отдалении за несколько километров от позвоночника, который превратился в раскаленный стержень...
Ловушка! Я все-таки попал в ловушку! В простую, бесхитростную, незатейливую, уже неоднократно обойденную, но от этого ничуть не безопаснее. Вот и все... Теперь я буду торчать на этой нелепой площади памятником самому себе, памятником своей тупой самоуверенности...
Правда, у меня еще есть крохотный зыбкий шанс, даже не шанс, а скорее надежда, надежда отыскать все-таки свои собственные руки, которые до сих пор сжимают информационный обруч. Отыскать и заставить их сделать это совсем незаметное движение - одеть обруч на голову... Руки должны быть на уровне лица. Допустим, что так. Хорошо бы еще определить, где же находится мое лицо. Разве что на уровне рук... Отлично. Лицо на уровне рук, руки на уровне лица. Голова - на шее, шея - на всем остальном, а все остальное на площади... Ну, а что это у меня ноет в трех километрах северо-западнее третьего позвонка? Не иначе, как мизинец левой ноги, или, с тем же успехом это может оказаться и правым верхним коренным зубом. Меня стало слишком много для одного мозга... Но еще слишком мало для этой планеты, я еще не чувствую холода ее полюсов и испепеляющего жара экватора. Мысль работает необычайно ясно и четко, особенно, когда дело касается всевозможных абстрактных понятий, но, к сожалению, она не в силах пошевелить какой-либо частью моего огромного и непрерывно разрастающегося тела... Итак, последняя попытка. Я напрягаю все силы и представляю, как мои руки опускают на голову обруч... Я ощущаю его вес и холод прикосновения... Тихий, вкрадчивый голос что-то нашептывает мне, нашептывает... И все становится на свои места. И безлюдная изуродованная площадь, и я посреди нее, и дух, застывший в двух шагах справа от меня... Резко опускаюсь на колени и, заваливаясь на бок, переворачиваюсь, пытаясь оборвать тонкую, едва заметную нить, протянувшуюся от его левой полузыби к моему позвоночнику. Боль взметается к воплю, я слышу свой собственный крик, жуткий, как в кошмарном сне, и, почти теряя сознание, понимаю, что нить оборвана. Дух, колыхнувшись, приближается, выбрасывая в мою сторону десятка два лжезацепок, но я уже свободен и уверен в себе, свободен для побега от свободной и очевидной опасности...
Тяжело переводя дыхание, останавливаюсь у ступеней, ведущих к парадному входу в "Великое хранилище". Теперь если и есть опасность, то она во мне, а не вокруг, здесь меня уже ничто не сможет остановить. Да и похоже на то, что никто уже меня останавливать и не собирается, если поверить на слово профессору Дилу. И финальная часть программы окончилась... Почти окончилась... Срываю с головы информационный обруч и бросаю его прямо в открытую дверь, он пролетает ее, вспыхивает разноцветными искрами, и капли расплавленного металла медленно, как бы не подчиняясь времени, опускаются вниз и расплываются на полу в причудливые узоры... Вот теперь-то я с программой в расчете... А господа мовы начнут обстрел площади только через десять минут, но я в это время буду уже далеко, гораздо дальше, чем они могут себе представить... Я буду в глубине прошедших веков и в необъятных далях будущего... Стоит мне только войти в эту дверь... И я вхожу вовнутрь "Великого хранилища". Здесь все хранит следы поспешной, но, по-видимому, не особенно удачной эвакуации. Ящики, сваленные у самого выхода, почти не дают возможности двигаться дальше. Сотни контейнеров, забитых до верху самым ценным, тем, что надо спасти в первую очередь, разбросаны по всему холлу. Спасти в первую очередь? Спасти? Спасти в первую очередь, или уничтожить во что бы то ни стало? Но оно не спасено и не уничтожено... И теперь мешает мне идти к цели. Прямо что-то похожее на лифт, но к нему не пробиться, а главное - мне туда и не надо, мне надо налево, к лестнице. Пробираюсь в ущелье из ящиков, каждый миг ожидая, что какой-то из них рухнет на меня, похоронив в двух шагах у двери... В двух шагах от двери между известным и неведомым. Кстати, кто это из древних поэтов сказал, что человек - это чуть приоткрытая дверь между известным и неведомым? Не помню, но он прав... Но что касается людей... А вот Его Фельдмаршальство господин президент, по-моему, это даже две двери, и обе плотно закрытые на множество замков. Одна дверь в мозгу и вторая в тюрьме... А вот и лестница... А теперь все вниз, все ниже и ниже, двадцать восемь лестничных пролетов... Ступени покрыты толстым слоем пыли - восемьдесят лет назад здесь прошел уже один человек, но следов не видно, пыль съедает все следы, заполняя их собой. За мной, наверное, тоже не останется следов... Здесь наверняка не останется, а вот на Генне... А пыль под ногами все та же, все та же красно-коричневая пыль... Пепел... Возможно, много десятилетий назад эта пыль могла двигаться вполне самостоятельно. Могла двигаться и желать... А теперь я топчу ногами то, что раньше было живым, то, что думало и мечтало. Наверное, плохо думало и не о том мечтало, раз превратило огромный город в кладбище... Вниз, вниз, все быстрее и быстрее вниз, туда, где еще осталось что-то от тех мыслей, которыми был полон этот город... Но вот что мне не дает все время покоя? Вот она цель - рядом, уже совсем близко, впереди опасности нет, позади и по бокам и подавно, но где-то она ведь есть, я же чувствую, как она движется совсем рядом, не отстающая и не догоняющая опасность... И уже почти бегом пересекая последний пролет, я наконец понимаю, где скрывается эта опасность... Она во мне, во мне самом... А вот теперь цель совсем рядом. Вот она, кабина лифта. Что-то белое и страшное в ней, но я не хочу смотреть на него, я уже по горло сыт этой застывшей во всех закоулках смертью. Хватит. Отворачиваюсь и бегу по коридору, двести метров по полу, усеянному останками жизни, двести метров по тускло освещенному коридору, наперегонки со своими сменяющими друг друга тенями. По тускло освещенному коридору... Светильники горят вполнакала, но все-таки горят! Какая же все-таки пропасть между миром вещей и человеческой жизнью. Светильники, зажженные несколько столетий назад, пережили своих творцов и обрели самостоятельное существование. А люди? О чем они думали в тот последний для них день? Они думали о спасении вещей, а когда подумали о своем собственном спасении, было уже поздно. А может, все-таки кому-то из них и удалось спастись? Наиболее ловким, наглым и жестоким? Нет. Нет, тогда уж лучше, чтобы не спасся никто... Вовремя, вовремя надо было думать о спасении самых добрых и умных... Вовремя остановиться и подумать, подумал я не останавливаясь...