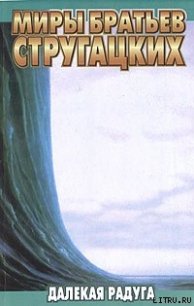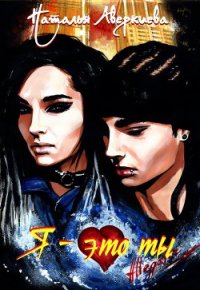Далекая радуга. Трудно быть богом - Стругацкий Аркадий Натанович (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
— Дети… — проворчал директор, ухмыляясь. Он опустил раму. — Застоялись младенцы. Не знаю, что я буду делать без них.
Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая сгорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея, звездолетчика и десантника, просто не могло быть такой спины.
— Матвей, — сказал Горбовский. — Я тебе правда нужен?
— Да, — сказал директор. — Очень. — Он все смотрел в окно.
— Матвей, — сказал Горбовский. — Расскажи мне, в чем дело.
— Тоска, предчувствия, заботы, — продекламировал Матвей и замолчал.
Горбовский поерзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и так же тихонько сказал:
— Ладно, дружок. Я посижу здесь с тобой просто так.
— Угу. Ты уж посиди, пожалуй.
Грустно и лениво звенела гитара, за окном пылало горячее пустое небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно.
— Ждать. Будем ждать, — громко сказал директор и вернулся в свое кресло.
Горбовский промолчал.
— Да! — сказал он. — Какой же я невежливый! Я совсем забыл. Что Женечка?
— Спасибо, хорошо.
— Она не вернулась?
— Нет. Так и не вернулась. По-моему, она теперь и думать об этом не хочет.
— Все Алешка?
— Конечно. Просто удивительно, как это оказалось для нее важно.
— А помнишь, как она клялась: «Вот пусть только родится!…»
— Я все помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь. Она с ним сначала ужасно мучилась. Жаловалась. «Нет, — говорит, — у меня материнского чувства. Урод я. Дерево». А потом что-то случилось. Я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросенок. Очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке. Вдруг он спрашивает: «Папа, что это приседает?» Я сначала не понял. Потом… Понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стене. «Приседает». Очень точный образ, правда?
— Правда, — сказал Горбовский. — Писатель будет. Только хорошо бы отдать его все-таки в интернат.
Матвей махнул рукой.
— Не может быть и речи, — сказал он. — Она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал: «Зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни?» Это ее смысл жизни. Мне это недоступно, — признался он, — но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я много старше ее. И слишком поздно для меня появился Алешка. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Я понимаю. Но мне это незнакомо. Я, Матвей, никогда не был одиноким.
— Да, — сказал Матвей. — Сколько я тебя знаю, вокруг тебя все время крутятся люди, которым ты позарез нужен. У тебя очень хороший характер, тебя все любят.
— Не так, — сказал Горбовский. — Это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет и, представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека.
— Ты очень богатый человек, — проговорил Матвей.
— Кстати, — вспомнил Горбовский. — Вышла в Москве книга. «Нет горше твоей радости». Сергея Волковского. Очередная бомба эмоциолистов. Генкин разразился желчной статьей. Очень остроумно, но неубедительно: литература, мол, должна быть такой, чтобы ее было приятно препарировать. Эмоциолисты ядовито смеялись. Наверное, все это продолжается до сих пор. Никогда я этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо?
— Это очень просто, — сказал Матвей. — Каждый воображает, что делает историю.
— Но он делает историю! — возразил Горбовский. — Каждый действительно делает историю! Ведь мы, средние люди, все время так или иначе находимся под их влиянием.
— Не хочется мне об этом спорить, — сказал Матвей. — Некогда мне об этом думать, Леонид. Я под их влиянием не нахожусь.
— Ну давай не будем спорить, — сказал Горбовский. — Давай выпьем сока. Если хочешь, я даже могу выпить местного вина. Но только если это действительно тебе поможет.
— Мне сейчас поможет только одно. Ламондуа явится сюда и разочарованно скажет, что Волна рассеялась.
Некоторое время они молча пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов.
— Что-то давно к тебе никто не звонит, — сказал Горбовский. — Даже как-то странно.
— Волна, — сказал Матвей. — Все заняты. Раздоры забыты. Все удирают.
Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламондуа. Лицо у него было задумчивое, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идет, и Горбовский почувствовал неприятное ощущение под ложечкой. Он еще представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придется. Он выключил проигрыватель.
Подойдя к столу, Ламондуа остановился.
— Кажется, я огорчу вас, — медленно и ровно сказал он. — «Харибды» не выдержали. — Голова Матвея ушла в плечи. — Фронт прорван на севере и на юге. Волна распространяется с ускорением десять метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов. — Он повернулся к Горбовскому. — Капитан, мы надеемся на вас. Будьте добры, скажите, какая у вас грузоподъемность?
Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями.
— Грузоподъемность? — повторил Горбовский и встал. Он подошел к директорскому пульту, нагнулся к микрофону всеобщего оповещения и сказал:
— Внимание, Радуга! Штурману Валькенштейну и бортинженеру Диксону срочно явиться на борт звездолета.
Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо.
— Ничего страшного, дружок, — сказал он. — Поместимся. Отдай приказ эвакуировать Детское. Я займусь яслями. — Он оглянулся на Ламондуа. — А грузоподъемность у меня маленькая, Этьен, — сказал он.
Глаза у Этьена Ламондуа были черные и спокойные — глаза человека, знающего, что он всегда прав.
6
Роберт видел, как все это произошло.
Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны-приемники. Их было сорок восемь — тонких тяжелых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму, и каждый нужно было аккуратно вывернуть и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север.
Над северным горизонтом стояла высокая черная стена. По гребню ее, там, где она упиралась в тропопаузу, шла ослепительная световая кайма, а еще выше в пустом небе вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что ее сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как-то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на Земле, когда все затихает и солнце еще светит вовсю, но полнеба уже закрыто черно-синими тяжелыми тучами. В этой тишине было что-то особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая Волна бросала впереди себя многобалльные ураганы и рев бесчисленных молний.
А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчетливо доносились торопливые голоса с площади внизу, где в тяжелый вертолет навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдений, записи автоматических приборов. Было слышно, как Пагава гортанно бранит кого-то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретический вопрос о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над Волной. Все население Гринфилда собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся накануне в поселке на ночлег, были отправлены за полосу посевов. Биологов отправили на птерокаре вместе с лаборантами, которым Пагава приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт, а за туристами прибыл специальный аэробус из Столицы. И биологи и туристы были очень недовольны; и когда они улетели, в Гринфилде остались только довольные.