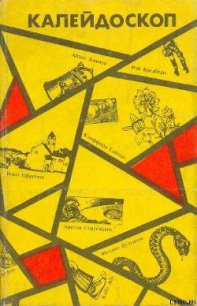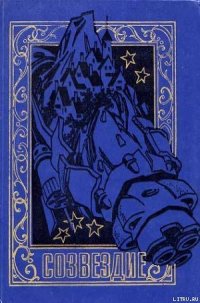Белая пушинка (сборник) - Драгомир Миху (книги без сокращений .txt) 📗
Я помнил, что вошел в хвостовой отсек, когда космолет, пролетев недалеко от Юпитера, покидал нашу Солнечную систему. Но сколько часов — или дней — протекло с тех пор? И куда я мчался на своем крошечном обломке ракеты?
Как ни странно, в эти минуты отчаяния мне в голову приходили самые нелепые мысли: например, я вспоминал старинную историю о Робинзоне Крузо, выброшенном океаном на необитаемый остров… Я бы отдал все что угодно, лишь бы ощутить под ногами хоть клочок земли, лишь бы избавиться от давящей бесконечности космоса. В течение многих веков имя Робинзона Крузо было символом победы человека над жестокими законами одиночества, символом торжествующей воли к жизни. Но он-то был одинок на земле, среди природы, живой и дарующей ему жизнь. Нет, он, собственно, вовсе и не был одинок: он просто находился далеко от остальных людей. Мое же одиночество было абсолютным, поистине космическим, полным отчуждением от всего человеческого.
Чтобы не потерять власти над собой, я обязательно должен был принять какое-либо решение — все равно какое, лишь бы что-нибудь делать. А ведь так просто избавиться от этого кошмара: открыть тяжелые люки герметического тамбура и впустить в эту крохотную ракушку космический вакуум. И все… Но я еще был жив, и все мое существо мучительно жаждало спасенья.
Я вновь принялся перебирать запасы, хранившиеся в отсеке. Отобрав все, что могло в крайнем случае заменить пищу, я принял большую дозу тонизирующего средства, которым мы обычно пользовались при операциях. Эта доза давала мне возможность в течение двух суток не заботиться о еде. Затем я наткнулся на довольно внушительный запас совершенно ненужных мне солнечных зеркал и большой набор красок. Вид его вызвал у меня горькую улыбку.
В те времена во многих космических экспедициях принимали участие художники — любители и профессионалы, нередко даже известные мастера. Тогда только-только начиналась эпоха космического искусства, и художники были готовы путешествовать целые месяцы и даже годы, лишь бы увидеть собственными глазами пейзажи Венеры и Меркурия или, временно поселившись на каком-нибудь спутнике, писать фантастические хороводы облаков на Юпитере. Кстати, одна из таких картин и заставила нас с Магдой стать врачами-космонавтами. Мы еще не решили, кем быть, и, собственно говоря, даже не думали о подобной возможности, когда неожиданно увидели пейзаж единственной планеты Тау Кита — фиолетовое море, берег, затененный огромными синими деревьями, и небо, по которому плыли три луны. Эта картина, известная на всем земном шаре, была написана выдающимся художником и производила на всех потрясающее впечатление. Она принесла нам образ иного, неведомого мира, который был так похож на наш, но цвета которого обладали столь фантастической яркостью, что перед ними блекли все земные краски. Мы с Магдой тогда как раз получили дипломы врачей.
— Еще две недели поваляемся на пляже, — говорили мы друг другу, — а потом решим, чем заниматься.
Нам уже предложили два места в полярном санатории в Антарктике, и было очень приятно мечтать, как мы будем жить и работать среди ледяных торосов, в стеклянном, залитом искусственным солнцем городе. Были и другие предложения, но, я думаю, в конце концов мы поехали бы туда, на полюс, если бы случайно не зашли на выставку современной живописи, открывшуюся на курорте, где мы проводили отпуск. Когда Магда увидела эту картину, она ахнула, а потом долго молчала.
— Мы должны, обязательно должны увидеть все это собственными глазами!.. — наконец прошептала она.
В эту минуту решилась наша дальнейшая судьба. Мы поступили на курсы специализации для врачей-космонавтов и через год отправились в первое космическое путешествие. В течение земного месяца мы кружили вокруг Меркурия, стараясь разгадать тайны его литосферы. Через год я вернулся на Землю глубоко разочарованным.
До первого полета я думал, что любая экспедиция в космос — это настоящее путешествие в мир сказок, где мы ежедневно будем восхищаться неведомыми чудесами, легко, как пушинка, опускаться на другие планеты, обнаруживать новые миры и величественные следы иных звездных цивилизаций, а потом, вернувшись на Землю, изумлять человечество своими потрясающими открытиями. Эти фантазии заворожили нас, космическая романтика овладела нами безраздельно, и мы добровольно покорились ее деспотизму, сулящему так много неизведанного и прекрасного.
Однако первая же экспедиция развеяла эти мечты, показав нам трудную и скучную действительность: однообразные дни в космолете, одно и то же неизменное расписание дня, а главное — сплошная, вечная ночь вокруг. Зрелище уплывающей вдаль Земли восхищает только в самом начале. Позже по Земле только тоскуешь. Хотя вокруг простирается необъятность бесконечного пространства, летишь словно по туннелю, окруженный со всех сторон кромешной, непроглядной тьмой. За все время полета мы не совершили ни одной посадки. Да, первая же экспедиция значительно умерила нашу восторженность. Я уже был готов отказаться от должности врача-космонавта и остаться на Земле, но Магда даже слушать об этом не хотела. Первая неудача только раззадорила ее — и именно потому, что не удалось пережить ничего необыкновенного.
— Мы обязаны продолжать, обязаны! — твердила она. — Я должна во что бы то ни стало увидеть Тау Кита!
Копия этой картины висела в нашей каюте, сверкая всеми своими необыкновенными красками, с непреодолимой силой увлекая нас в глубины космоса.
Наша каюта!.. Я тупо уставился на тюбики с красками и вдруг в отчаянии стал топтать их ногами.
Надеяться на встречу с людьми можно повсюду, но только не в вечной ночи космоса. Шансы на встречу столь ничтожно малы, что практически она полностью исключается. Но заведомо понимая всю нелепость надежды, я все-таки заставлял себя думать о спасении, и это немного успокаивало меня, хотя такое успокоение граничило с сумасшествием. Собственно, я даже не искал выхода, а просто пытался отогнать мысль о неизбежной гибели.
Как долго я сидел в мрачном отупении? Не знаю. В конце концов я решился на осмысленное действие, единственно возможное в моем положении. Я надел скафандр и выбрался наружу. Лечу ли я или неподвижно повис в безвоздушном пространстве? Вокруг черная пустота. Я — единственное живое существо во всей этой необъятности, слабый, беспомощный человек, превратившийся в одинокую комету, потерянный для всех своих спутников и ожидающий полного исчезновения. Где я нахожусь, над своим отсеком или под ним? Низ, верх — эти понятия исчезли. Единственным механизмом, который все еще пытался как-то измерять время, была моя кровь — она судорожно пульсировала, словно крича: «Жив!»
И я написал это большими буквами на боковых стенах отсека, использовав все тюбики с белой краской. «Я жив!» — было начертано на одной стороне отсека. «Я жив!» — кричали буквы на другой. Последняя соломинка., за которую я еще мог цепляться. Призрачная и ничтожная надежда! Для моего спасения требовалось, чтобы какой-нибудь космический корабль пролетел поблизости (а что значит «поблизости» в космосе?), чтобы у него были включены прожекторы (а это случалось лишь в тех случаях, когда космонавты специально что-то искали) и, наконец, чтобы в их лучи попала та крохотная песчинка, в которой ютился я. Лишь в этом случае в немом равнодушии космоса раздался бы крик: «Я жив!»
Несмотря на всю неискушенность в математических расчетах, я прекрасно сознавал, что шансы на спасение равны нулю… Теперь оставалось только ждать. Как долго? Возможно, вечность. А что мне делать в моей затерянной в пространстве тюремной камере? Хотя время для меня уже остановилось, я все-таки ощущал его в нетерпеливом биении своего сердца. Сперва я решил регулярно принимать тонизирующие средства и просто лежать, думая о чем попало. Но в мыслях таилась смертельная опасность. Все они были населены людьми и здесь, в плену мертвой бесконечности, становились настоящей пыткой. Значит, необходимо было помешать им. Для этого я располагал большим запасом снотворного и мог бы себя усыпить, но я боялся тех страшных минут пробуждения, которые вновь и вновь будут убеждать меня в том, что не произошло никаких перемен, боялся, что не смогу в такое мгновение побороть не только свои мысли, но и подсознательные стремления. Я уже ловил себя на том, что машинально тянусь к рычагам, чтобы открыть люки и раствориться в пустоте… Но ведь я еще мог сопротивляться и, значит, должен был бороться до конца! Я упрямо надеялся, что какая-нибудь перемена обязательно произойдет еще до того, как иссякнут мои последние силы. Мне оставалось только надеяться — и ждать.