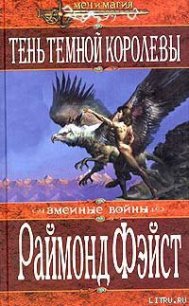Всевышнее вторжение - Дик Филип Киндред (книги без сокращений txt) 📗
– Тогда выходит, – сказал Эммануил, – что собачья смерть есть высокое искусство, высочайшее искусство в мире. Во всяком случае, она прославлена и запечатлена высоким искусством. Должен ли я видеть гордость и благородство в старом шелудивом псе с раздавленной грудной клеткой?
– Да, если ты склонен доверять Монтеверди, – сказал Элиас. – Монтеверди и всем его почитателям.
– А нет ли чего-нибудь ещё, что стоило бы ламентаций?
– Да, есть, но всё не подходит к случаю. Тесей бросил Ариадну, неразделённая любовь.
– Так кто же вызывает большее сочувствие? – спросил Эммануил. – Полудохлый пёс в придорожной канаве или отвергнутая Ариадна?
– Ариадна сама напридумывала себе муки, а пёс мучается по-настоящему.
– Значит, муки пса куда значительнее, – подытожил Эммануил. – Его смерть куда большая трагедия.
Он понял и, как ни странно, почувствовал удовлетворение. Ему нравился мир, в котором шелудивый пёс, угодивший под колёса машины, значил больше, чем персонаж из древнегреческой трагедии. Он почувствовал, как восстановился сдвинутый баланс весов, взвешивающих всё сущее. Он почувствовал честность вселенной, и смятение его оставило. А важнее всего то, что пёс понимал свою смерть. А ведь он, пёс, никогда не слушал музыки Монтеверди и не читал строк, высеченных на Фермопильской мраморной колонне. Высокое искусство было скорее для тех, кто видел смерть, чем для тех, кто её переживал. Умирающей твари куда важнее чашка воды.
– Твоя мать ненавидела некоторые виды искусства; в частности, её тошнило от Линды Фокс.
– А поставь мне что-нибудь из Линды Фокс, – попросил Эммануил.
Элиас нашёл кассету, поставил её на деку, и из динамиков зазвучало:
Не лейте слёзы, родники.
Свою…
– Хватит, – сказал Эммануил, зажимая ладонями уши. – Это кошмар какой-то, – добавил он и передёрнулся всем телом.
– Что с тобой? – Элиас подхватил мальчика на руки. – Я никогда не видел тебя таким расстроенным.
– И вот это он слушал, когда моя мать умирала! – воскликнул Эммануил, глядя в бородатое лицо Элиаса.
Я помню, сказал он себе. Я начинаю вспоминать, кто я такой.
– Так в чём же дело? – настаивал Элиас, крепко прижимая к себе мальчика.
Это происходит, понял Эммануил. Наконец-то. Это был первый из сигналов, который я – я сам и никто другой – предуготовил. Зная, что когда-нибудь он прозвучит.
Они смотрели друг другу в глаза; ни старик, ни мальчик ничего не говорили. Дрожащий Эммануил цеплялся за Элиаса, чтобы не упасть.
– Не бойся, – сказал Элиас.
– Илия. – Эммануил смотрел ему прямо в глаза. – Ты Илия, иже приидет прежде. Перед великим и страшным днём.
– Тебе будет нечего бояться в тот день, – сказал Элиас, покачивая мальчика на руках.
– Но ему-то есть, – с жаром откликнулся Эммануил. – Врагу, которого мы ненавидим. Его время приспело. Я боюсь за него, потому что я знаю, что ждёт нас впереди.
– Слушай, – негромко сказал Элиас.
– Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе.
– Видишь? – спросил Элиас. – Он здесь. Это его обиталище, этот маленький мир. Он сделал его своей твердыней две тысячи лет назад, сделал и построил тюрьму для людей, как то было прежде в Египте. Два тысячелетия люди рыдали, и не было им ни отклика, ни поддержки. Он поглотил их без остатка, и он считает себя в безопасности.
Эммануил, всё так же цеплявшийся за старика, горько заплакал.
– Всё ещё боишься? – спросил Элиас.
– Я плачу вместе с ними, – сказал Эммануил. – Я плачу со своей матерью. Я плачу с умирающим псом, который не плакал. Я плачу по ним. И по Велиалу, который пал, по сияющей деннице. Пал с небес и начал всё это.
А ещё, думал он, я плачу по себе. Я – моя мать, я – издыхающий пёс и страдающие люди, и даже, думал он, я и есть та сияющая денница, Велиал, я и то, чем он был, и то, во что он превратился.
Руки старика держали его крепко, надёжно.
ГЛАВА 7
Кардинал Фултон Стейтлер Хармс, Главный Прелат огромной, раскинувшейся по всем континентам Христианско-Исламской Церкви, не мог взять в толк, почему в особом персональном фонде никогда не хватает денег на покрытие расходов его любовницы. Возможно, думал он, наблюдая в зеркало за медленными, осторожными движениями брадобрея, у меня просто нет верного представления о потребностях Дирдре, об их размахе. В своё время она сумела найти к нему подход, задача нешуточная, ведь для этого ей потребовалось подняться по иерархической лестнице ХИЦ почти до самого верху, ни разу не оступившись. Дирдре тогда представляла ВФГС, Всемирный Форум Гражданских Свобод, и она пришла со списком нарушений оных – материей, туманной для него и в тот момент, и по сю пору. Как-то так вышло, что они тем же вечером оказались в одной постели, после чего Дирдре вполне официально стала, да так и осталась, его исполнительным секретарём. За свою ответственную работу она получала два жалованья, видимое – через кассу, и невидимое, поступавшее с весьма внушительного и никому, кроме него, не подотчётного счёта на текущие расходы. Хармс не имел ни малейшего представления, что происходило со всеми этими деньгами после того, как они попадали к Дирдре, он и свои-то деньги толком считать не умел.
– Вам не кажется, что стоило бы ликвидировать эти жёлтые пряди на висках? – спросил брадобрей, встряхивая изящный пузырёк.
– Да, – кивнул Хармс, – пожалуйста.
– А вам не кажется, что теперь «Лейкеры» непременно переломят свою полосу неудач? – спросил брадобрей. – В смысле, когда они заполучили этого, как уж его там, в нём же девять футов и два дюйма. Если б они не взрастили…
– Арнольд, – мягко прервал его Хармс и постучал себя пальцем по уху, – я слушаю новости.
– А-а, ну да, понятно, отец, – откликнулся брадобрей Арнольд, втирая в благородную седину Главного Прелата осветляющий раствор. – Но тут я у вас ещё вот что хотел спросить, насчёт священников-гомосексуалистов. Ведь Библия, она же точно запрещает гомосексуализм, точно ведь? Вот я и не понимаю, как это откровенный, бесстыдный гомосексуалист может быть священником?
Новости, каковые Хармс пытался слушать, были связаны со здоровьем Николая Булковского, Верховного Прокуратора Научной Легации, Несмотря на круглосуточные молитвенные бдения многих священников, Булковский продолжал угасать. Хармс тайно откомандировал своего личного врача, дабы тот оказал всю возможную помощь бригаде специалистов, старавшейся удержать прокуратора по эту сторону рубежа, отделяющего жизнь от смерти.
Не только Главному Прелату, но и всему высшему духовенству было известно, что атеист Булковский давно уже обратился в веру Христову. Его обратил харизматический евангелистский проповедник доктор Кон Пассим, имевший обыкновение летать пред восхищённой паствой, наглядно тем показывая присутствие в себе Духа Святого. Конечно же, доктор Пассим заметно сдал после того, как в приступе чрезмерного энтузиазма пролетел сквозь центральный витраж собора в Меце, одной из жемчужин французской готики. Если до того Пассим говорил на языках лишь от случая к случаю, теперь он полностью переключился на демонстрацию этого своего дара. Вследствие чего один из известнейших телевизионных юмористов предложил издать англо-глоссолалийский словарь, чтобы люди могли хоть что-нибудь понять из проповедей доктора Пассима. Что, в свою очередь, вызвало у набожных христиан столь бурное возмущение, что кардинал Хармс отметил в настольном календаре, что надо бы при случае предать наглеца анафеме. Отметил и тут же забыл, в его голове не было места для материй столь мелких.
Значительную часть кардинальского времени поглощало тайное хобби: он скармливал огромному искусственному интеллекту, именовавшемуся в просторечии Большим Болваном, «Прослогион» св. Ансельма Кентерберийского в вящей надежде придать новую жизнь много веков как дискредитированному онтологическому доказательству существования Бога.