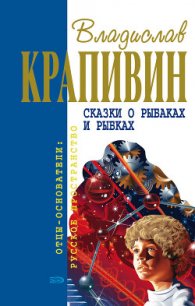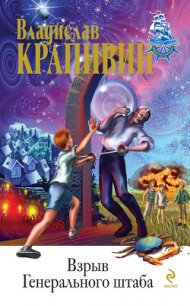В глубине Великого Кристалла. Том 2 - Крапивин Владислав Петрович (книга бесплатный формат TXT) 📗
— Да сколько ждать-то?! — вырвалось у меня с новым отчаянием.
— А вот это конечно… — вздохнула Серафима, и в ее (в Ерошкиных) глазах было понимание и сочувствие.
— Спасибо. Пойду… — Я снял с колен Маську, поднялся.
— Да куда пойдешь-то? — озабоченно спросила Евдокия Власьевна.
— Не знаю… Буду теперь все дни ходить по улицам, искать. Может, встречу беглецов… И надо в какой-то гостинице угол найти, не под забором же ночевать…
— А на что тебе гостиница-то, — по-свойски, будто давнему знакомому, сказала старуха. — Там одна маета да расход. Живи здесь. У нас угловая комната свободная. В ней Костик живет, когда приезжает, да в эту зиму едва ли приедет, они с женой маленького ждут…
Пространство опять перелистнуло прозрачный лист. И мне показалось вполне логичным жить в этом старом доме, недалеко от парка, и ждать окончания событий. Я чуял, что именно здесь меня не оставит надежда разыскать в конце концов Еську и Ерошку.
«А зачем они тебе? Боишься, что придется отвечать — увез и потерял?»
«Не в этом дело…»
«А в чем?»
«Не знаю… Я без них не могу. У меня больше никого нет».
Евдокия Власьевна не брала с меня плату за жилье. Я жил словно приезжий родственник. Помог отремонтировать в погребе лари для картошки. Починил модель парусника, которую в школьные годы построил Костик. Она, кстати, была похожа на придуманную мной шхуну «Томас Манн», только называлась «Индеец». Чтобы проверить это сходство, я достал из бумажника старый календарный листок (там, у реки, я так и не вернул его Ерошке). А достав, сразу вспомнил: на нем ведь номер телефона, по которому Ерошка звонил Еське.
В доме телефона не было. Пришлось купить в киоске карточку для автомата. С колотящимся сердцем я поспешил в ближнюю будку. Вот наберу сейчас 00–22–34 (ой, нет, 200–22–34!) и услышу Еськин голос…
Голос оказался другой, хотя тоже знакомый.
— Неправильно набран номер… Неправильно наб… — задолдонила механическая девица.
— Дура безмозглая, — с великой горечью сказал я.
— Сам такой… — тем же голосом ответствовала девица. — А Еське больше не звони. До весны ты ее все равно не найдешь… — И запикало в трубке.
Я обалдело постоял с трубкой в руках. И с досадой, и… с надеждой все-таки. Ведь наступит же когда-нибудь весна. И, выходит, девица что-то знает? Или не она, а Синий Треугольник…
Надо сказать, дни бежали быстро. Пришла зима. Я колол дрова для изразцовой высокой печки и кухонной плиты. Ходил по заданию хозяйки на рынок. Чинил ходики, которые то и дело сбивались с ритма. Поправил покосившийся навес над крыльцом… Часто налетали густые, но не холодные метели.
В доме обычно было пусто. Евдокия Власьевна уходила в магазины, к соседкам или в контору паркового хозяйства. Серафимы тоже не было: она работала в той же конторе, в проектном отделе. Только Маська бесшумно ходила по плетеным половикам и терлась худыми боками о мои джинсы.
Иногда я читал старые «Огоньки», во множестве накопившиеся на полках и антресолях. Порой разглядывал фотографии на стенах. Это были Никита Юрьевич в разные годы жизни (но неизменно во флотском кителе), Евдокия Власьевна (от молодости до наших дней) и Костик. Костик в пеленках, Костик в школьном костюмчике, Костик в форменке флотского курсанта, Костик с шевронами речного штурмана… Была и Серафима — тоже начиная с малых лет…
Иногда мы с Серафимой ходили в типографию: выбивать заказ. Но билеты все не печатали — под разными предлогами. Правда, разговаривали работники типографии с каждым разом все виноватее («Мы все понимаем, но войдите в наше положение…»). Тот «нахальный», на которого жаловалась Серафима, со мной держался почтительно. А однажды отвел в сторону и заговорщицки спросил:
— Верна ли поступившая к нам информация, что вы автор книжки «Под синим кливером»?
— Верна. Ну и что?— Здешнее издательство, к которому я имею некоторое отношение, попросило узнать: не согласитесь ли вы на переиздание?
Предложение было заманчивое. Но я сурово сказал:
— Сначала билеты.
— Понял…
Казалось бы, для чего мне теперь билеты? И все же была у меня с ними связана непонятная надежда. А в глубине сознания тупо, без боли, но непрестанно стучало: «Еська, Ерошка, где вы…»
Мне нравилось ходить в типографию. Она располагалась в том длинном кирпичном доме с башней и часами, который я видел при подъезде к Ермильску. Только теперь это здание оказалось почему-то не в стороне от города, а среди центральных кварталов.
В длинных сводчатых коридорах пахло как в музее. В готические окна проникал пасмурный зимний свет. Желтели в простенках горящие лампы на бронзовых кронштейнах. Коридоры делали плавные повороты и приводили к винтовым чугунным лестницам. Гулко разносились голоса, и порой с башни доносился бой часов. А еще мне казалось, что где-то за стенами порой возникает гул проходящего поезда. Это нагоняло воспоминание об утре, когда мы приехали в Ермильск. И возникало ощущение недосмотренного сна. И ожидание… Странное ожидание, что вот сейчас разнесется стук деревянных ножек и в коридор на всем скаку примчатся Ерошка и Еська…
Один раз такое мне даже приснилось. И все было так ясно! Их виноватые рожицы («Не сердись, что мы долго катались…»), капельки растаявшего снега в волосах и на голых ногах, лукавые (хотя и нарисованные) глаза коняшек. Лужицы от их копыт… Когда сон стал угасать, я вцепился в него с отчаянной силой: «Не надо, не уходи! Пусть это будет правдой!» Но сон все же кончился (хотя, как я сейчас понимаю, мог не делать этого). Я открыл глаза. Мутно светила сквозь штору луна. В ногах у меня зашевелился Травяной Заяц.
— Ну, хоть ты здесь появился! — обрадовался я. — Придумай что-нибудь!
— Мр-р… — сказал Заяц, потому что это была Маська.
У меня, как у мальчишки, от горечи намокли ресницы. Я закрыл глаза и почти сразу увидел другой сон. Тот, что снился мне иногда и раньше (правда, не часто).
Будто я — старый и хворый писатель, автор многотомного собрания сочинений. (И когда я столько успел написать?) Мне порой приятно смотреть на этот ряд книжек с моим именем на корешках. Но постоянно гнетет тяжесть обрюзгшего тела и груз многих забот и тревог, которых с возрастом почему-то все больше и больше. И, пожалуй, чувствует мое состояние только рыжий кот, который живет у меня много лет. Он, в переводе на кошачий возраст, такой же старик, как и я.
Кот любит меня. Пожалуй, даже чересчур назойливо любит. Часто лезет на колени и трется мордой о мой живот, оставляя на рубахе и штанах рыжие клочья. Порой мешает работать. Тогда я сгоняю его с колен; «Не лезь, я занят!» Кот не обижается, но смотрит жалобно. Меня тут же начинает кусать совесть. «Ладно, иди сюда… Эх ты, чучело… Не сердись. Мы с тобой оба старики, неизвестно, кто кого переживет…»
Кот с удовольствием устраивается на коленях. Это все, что ему надо для радости жизни. Он не думает о бренности. О ней думаю я. Но больше почему-то тревожусь за кота, а не за себя. Есть на то основания. Несколько лет назад с беднягой случился припадок. У меня даже сохранилась в дневнике запись. (Не забывайте — это мемуары.) Вот она.
«…Хорошее настроение вечером было разбито грустным случаем с котом Максом. Он резвился, ловил на полу таракана и вдруг вскрикнул почти по-человечески. Упал на бок, высунул язык, из-под хвоста выпали какашки. Лежал, не мог подняться, дышал очень часто…
Началась суматоха, я дозвонился до диспетчера службы «Помощь животным», она сделала вызов врача и посоветовала дать Максу сердечные капли. Я дал немного валокордина. У бедняги пошла пенная слюна. Но потом он притих, стал дышать спокойнее.
Через час приехали две милые девушки, которые возились с Максиком часа полтора — умело, заботливо, ласково: мерили температуру, прослушивали, смотрели глазные яблоки, сделали укол. Сказали, что у него микроинсульт. Выписали много лекарств. Сегодня утром сходил в аптеку, выкупил кучу медикаментов, дал Максу две крошки от таблеток, понижающих давление.