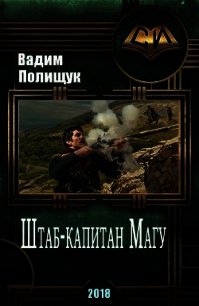Окно в пустоту - Артемьев Илья (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Марине Разлоговой не повезло с самого рождения. Она была поздним ребенком, ее родители были историками. Папа занимался древним Египтом, а мама — вопросами научного коммунизма. Оба они были искренне увлечены своей работой и свято верили в то, что сперва нужно сделать карьеру в науке, а потом уже обзаводиться детьми.
Когда Марине пришло время появиться на свет, акушерки в роддоме слишком долго пили чай. Процесс рождения ребенка давно уже обмазан липкой позолотой сладкой лжи. На самом деле на родильном столе лежит не Мадонна, а истерзанный болью кусок мяса. Если у женщины после десяти часов непрерывных страданий остается хоть какая — нибудь мысль, она мечтает только о том, чтобы все это побыстрее кончилось. Врачи и акушерки настолько привыкают к этим крикам и стонам, что воспринимают их всего лишь как некий звуковой фон, неизбежный в их работе вроде шума станков в цеху.
Марининой маме было уже трицать пять лет. Во всем мире это — цветущий возраст для женщины, и лишь на одной шестой части света врачи называют таких старыми первородящими-, а поэтому почти никакой ответственности за здоровье и жизнь матери и ребенка не несут.
Марина родилась мертвой. Это произошло в конце декабря и могло сильно подпортить показатели за год. Вообще-то мертворожденного ребенка положено реанимировать в течение пяти минут, а потом могут произойти необратимые процессы и даже смерть головного мозга. Над Мариной люди в белых халатах трудились в течение часа. В конце концов они победили. Слабенький, синий, жалобно пищащий комочек был обречен на жизнь. И какую жизнь!
Родителям тогда ничего не сказали. Они заволновались только через несколько месяцев, когда Мариночка не могла ни сидеть, ни ползать и вообще не проявляла свойственного здоровым детям любопытства и охоты к перемене мест. Тогда и прозвучал впервые страшный диагноз — ДЦП.
Первое, что Марина запомнила в своей жизни — это боль. Мышцы ее маленького тела постоянно сводило страшной судорогой. У больных ДЦП они становятся твердыми, как дерево и даже иногда ломают кости. Такие люди навсегда заперты в тесные клетки своих квартир и распяты на кресте своих страданий. До них никому нет дела.
Сперва была еще какая-то надежда. Но когда Марина в двенадцать лет почти не могла говорить и передвигалась, ползая как-то странно, по-крабьи, никаких надежд не осталось даже у измученной Марининой мамы. Она очень быстро постарела, даже съежилась как-то, начала много курить и часто, сидя поздно вечером на тесной кухоньке с сигаретой и стаканом крепкого чая, плакала над своим несчастным ребенком, над своей загубленной жизнью и думала о том, что же будет с Мариночкой, когда ее не станет.
Такой момент настал, и намного раньше, чем она ожидала. В день, когда Марине исполнилось тринадцать, Ольга Павловна Разлогова купила торт. С деньгами в семье было туго, но она очень старалась хоть чем-то порадовать свое дитя. Она ждала автобуса, и очень волновалась, В тот момент, когда водитель грузовика не справился с управлением, снес остановку и превратил в кровавое месиво всех, кто терпеливо дожидался общественного транспорта, она все еще продолжала инстинктивно прижимать к себе нарядную коробку с розочкой, нарисованной на крышке. Через час, не приходя в сознание, Ольга Павловна скончалась.
Узнав о случившемся, Геннадий Семенович впервые в жизни по-черному напился. Погружаясь в тайны давно прошедших времен, он мог хотя бы на несколько часов в день забыть о своем несчастье. Теперь он остался один с больным и беспомощным ребенком на руках. Сидя в тесной комнате, пропахшей мочой и лекарствами, он рюмку за рюмкой вливал в себя дешевую водку и плакал.
А с кровати за ним наблюдали пристальные, настороженные глаза дочери.
Еще одной бедой Марины было то, что она прекрасно понимала все, что происходит вокруг, но не могла этого выразить. Когда она пыталась что-то сказать, из перекошенного рта раздавалось только невнятное мычание. Руки и ноги не слушались. Боль сводила с ума. Марина ненавидела свое тело. Ей казалось, что тело — это тюрьма, в которой бьется, мучается и гибнет постепенно ее душа. Сейчас она понимала, что случилось что-то очень плохое, что мамы уже нет и никогда не будет, что отец в отчаянии…
В этот момент дверь тихонько открылась, и вошел тот человек.
Увидев его, Марина испугалась еще больше. Она почувствовала страшную, безжалостную силу, исходящую от него. Она замычала, заплакала, попыталась забиться в угол своей кровати, когда он уверенно, спокойно, по-хозяйски подошел к ней, положил на лоб свою холодную, тяжелую ладонь и сказал:
— Спи, дитя. Тебе надо отдохнуть.
Она действительно провалилась в сон, и даже боль на время отпустила. Незнакомец о чем-то долго разговаривал с папой. Сквозь дремоту Марина слышала только обрывки этого разговора.
Он уговаривал папу что-то сделать для него, папа оказывался, махал руками, утирал слезы с лица, громко, некрасиво сморкался и повторял, что он честный человек, что он ученый, а не лавочник, и за деньги не продается.
Незнакомец только улыбался, и, уходя сказал:
— У всего есть цена. И у тебя — тоже. Вот твоя цена, — он указал на Марину, — Я, конечно, не Бог, но плачу всегда честно.
С этого дня состояние Марины стало медленно, постепенно, но неуклонно улучшаться. Врачи только руками разводили. Отец же наблюдал улучшения со страхом и все чаще напивался.
Вскоре незнакомец пришел еще раз.
Отец молча выложил на стол целую пачку старинных пожелтевших рукописей, глиняных дощечек с древними надписями, каких-то ножей, бронзовых колец, а также и вовсе непонятных предметов. Он был очень бледен, руки у него дрожали.
Незнакомец не скрывал своей радости.
— Хорошо, очень хорошо…
Он улыбнулся Марине, потрепал ее по щеке. Потом пристально посмотрел ей в глаза, произнес несколько слов на каком-то непонятном языке и провел рукой возле ее лица, словно отгоняя что-то. Марина почувствовала сильный удар, потом ей показалось, будто душа ее отделяется от тела, покидает его. Сначала она видела как бы со стороны и комнату, в которой провела всю свою жизнь, и отца, и странного незнакомца. Потом все это исчезло, и ей явились совсем иные картины, то исполненные невиданной красоты, то таинственные и страшные. Она пришла в себя только через сутки.
Марина так и не поняла, что же с ней произошло. День за днем, шаг за шагом она выходила из своей тюрьмы. Боль, терзавшая ее столько лет, постепенно отпускала. Прежде чужое, ненавистное тело понемногу начинало слушаться. Она быстро научилась читать, книгу за книгой проглатывала — обширную отцовскую библиотеку, начала даже понемногу вставать с постели. Мало того. Марина начала рисовать. Сначала робко, неуверенно она пыталась переложить на бумагу свои чудесные видения.
Только одно огорчало ее в те дни. Отец ходил как в воду опущенный. Иногда ей казалось, что он даже не рад ее выздоровлению. Странный незнакомец больше не приходил, но отец виделся с ним. После таких встреч отец приходил всегда совершенно пьяный, с остановившимся бессмысленным взглядом. Марина терпеливо помогала ему раздеться, укладывала в постель как маленького.
Засыпая, отец все бормотал о том, что продал ради нее свою жизнь, и совесть, и душу, о каких-то деньгах, которые он не возьмет никогда. В один из таких вечеров в ее память намертво врезалось странное слово Курлык. Потом она узнала, что это небольшой дачный поселок под Москвой. В тот вечер отец бушевал и возмущался больше обычного, а утром так и не проснулся — тихо отошел во сне.
Боря не замечал больше ни болезненной бледности, ни исхудавшего лица, ни изуродованного тела Марины. Она казалась ему теперь хрупким и нежным стебельком, смятым чьей-то грубыми, равнодушными руками.
Уже в дверях она остановила Борю:
— Послушайте… Я вас очень прошу. Не ходите туда, пожалуйста. Я ему очень обязана, но… Это очень, очень страшный человек. Иногда мне кажется, что и не человек вовсе. Я не могу этого выразить, но чувствую… Если есть хоть малейшая возможность, не ходите туда.