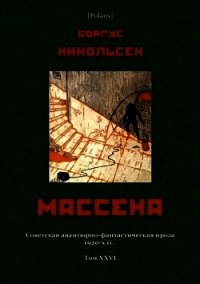Сокровища града Китежа Невероятное, но правдивое происшествие с предисловием издательства, приме - Мэнн Жюль
В конце декабря произошло событие, чуть не нарушившее планомерность научной работы. Ко мне в кабинет вбежала Настя, раскрасневшаяся и заплаканная.
— Вот вам моя книжка, платите ликвидационные, — не желаю я больше работать!
— Но, Настя…
— Не желаю и не желаю, и больше ничего!
— Но позвольте, что случилось?
— Не желаю и не позволю, и вот и все!
Я был окончательно сбит с толку категоричностью и вразумительностью Настиного заявления. Мягко, осторожно и вкрадчиво я начал:
— Вы успокойтесь, Настя, успокойтесь, так ведь невозможно. Давайте все по порядку…
— Не могу я успокоиться, совершенно это невозможно!..
Пауза и слезы. Я в полном недоумении. И вдруг — взрыв.
— По порядку? Какой же это порядок? Где это видано! Французский это какой-то порядок! Что я вам, подневольная, что ли? Разве мыслимо по три часа держать человека за фартук и рассказывать ему про старушку да про хаос, да еще черт знает про что, про всякую ерунду! У меня скулы с тоски сводит! А он все говорит и говорит. Я хочу уйти, а он не пускает, держит за фартук. И это, говорит, вы понюхайте, и это попробуйте. Это, говорит, космос, хаос! А я нанималась в нюхальщицы да в пробовальщицы, нанималась? А слушать всякие глупости я должна, а? Не могу я больше, не могу, ну, вот и все! Заговорит он меня, заговорит до смерти!..
Настя окончательно потеряла самообладание и заплакала навзрыд. Все было очевидно и понятно. С большим трудом я уговорил Настю по-прежнему соблюдать в кабинетах чистоту и не требовать от нас ликвидационных. Я вынужден был торжественно поклясться, что профессор больше не будет ее заговаривать и заставлять пробовать хаос.
Это была нелегкая задача, но я разрешил ее блестяще. Уже давно заметил я прискорбную страсть дорогого учителя. Он действительно хватал собеседника или просто случайного посетителя за пуговицу, в данном случае за фартук. Я сам, несмотря на молодость, крепкие нервы и глубокое уважение, старательно избегал встреч с дорогим учителем. Это понятно, — великому человеку нужна была аудитория, но помилуйте, с какой же стати я должен быть суррогатом этого недостающего атрибута величия? Уважение мое к дорогому учителю оставалось неизменным, но встреч с ним я избегал.
На этот раз я смело ринулся в кабинет № 2.
— Дорогой Жюлль Мэнн, посмотрите внимательно в эту пробирку! Вы видите, здесь клубятся призрачные газы, — знаете ли вы, что это такое?
— Знаю, — космос! Но не в этом дело, дорогой учитель, — сядьте!
Энергично нажав на плечи, я усадил профессора в кресло.
— Тшшш! Осторожно, дорогой учитель, осторожно, не произносите больше ни слова!
С таинственным видом я запер дверь на ключ и на цыпочках подошел к Оноре.
— Слушайте меня внимательно. Мне только что стало известно — каким путем, не спрашивайте, — это тайна, мне стало известно, что наша Настя не кто иной, как научный шпион! Во-первых, да будет вам известно, что она — немка! Во-вторых — она не уборщица, а научный сотрудник профессора Майера! Да, да! Того самого Майера, вашего заклятого врага! Он подослал ее к вам, чтобы выведать все ваши открытия. И, в спешном порядке опубликовав их, — выдать за свои! Да, да! Это так, увы, дорогой учитель, — это так. Будьте осторожны! Пятнадцать минут тому назад она отправила в Берлин шифрованную телеграмму! Два дня тому назад она…
Я остановился. Лекарство оказалось радикальным и сильнодействующим. Дорогой учитель смотрел на меня глазами, полными ужаса, а по старческим щекам катились мутные слезы.
— Но успокойтесь, дорогой учитель, еще ничто не потеряно. Она не успела узнать ничего существенного! Но теперь держите ухо востро. Уволить ее невозможно и вообще не нужно ничего предпринимать. Если ей нравится быть уборщицей — пусть убирает. А вы помалкивайте.
— Дитя мое, а то, что я рассказывал ей о первичном хаосе, о том, что космическая пыль в мировых вихрях вращения…
Дрожащей рукою учитель схватил меня за нижнюю пуговицу пиджака.
Ледяная дрожь потрясла меня. Ловким движением высвободив пуговицу, я еще раз успокоил профессора и выскочил в спасительный коридор. Приник ухом к дверям. Профессор всхлипывал. Бедный старик, — мне было жалко его. Я уже взялся за ручку двери, но глянул на пуговицу и вовремя остановился…
— …и вот вы видите, что космическая пыль, если можно так выразиться, отцентрофугировалась… — доносился из-за стены дребезжащий голос гениального старца.
В январе, будучи по делам в Рязани, я нашел для ученого самого подходящего слушателя. С трудом, при помощи переводчиков, мы столковались с ним о его вознаграждении и обязанностях. Искренне желая порадовать дорогого учителя, я привез Федора Колодуба в наш поселок. Я отрекомендовал его, как молодого русского ученого, который слышал о ценных работах Оноре Туапрео и жаждет быть его покорным и молчаливым учеником, жаждет услышать те крупицы мудрости, которые Оноре Туапрео соблаговолит бросить ему от своих щедрот.
Все устроилось великолепно. До самой весны, до первого тепла, ежедневно по 8-10 часов Федор Колодуб добросовестно выслушивал дорогого учителя, пробовал из разных пробирок «на вкус», смотрел их на свет, словом, был покорным и молчаливым «восхищенным учеником».
Но только повеяли первые весенние ветры и пригрело солнышко, как Федор Колодуб таинственно и бесследно исчез, даже не получив причитавшееся ему за последние полмесяца жалованье. После этого его уже никогда не встречали в Рязани.
Через две недели, когда уже возобновились и пошли полным темпом работы, я получил от Колодуба письмо, все покрытое многочисленными штемпелями. Начиналось оно так:
«Вы думаете, что ежели я от рожденья обижен, что ежели я глухонемой, так надо мной можно издеваться?..»
Ах, но до писем ли мне было, когда каждый уходящий день приближал меня к неисчислимому богатству, когда каждый день приближал меня к моей далекой и любимой Клэр! Я так и не дочитал письма Федора Колодуба, да простит он мне это!
19
Зима была на исходе и еще холодное, но уже весеннее солнце бодрило нас и напоминало о далекой, прекрасной нашей родине. Ах, скоро, уже скоро!
И я, и дорогой учитель, и даже хладнокровный Бартельс извелись за эту бесконечную, лютую русскую зиму. Мы устали от жестоких морозов, от тяжелых шуб и неудобных валенок, а главное, от томительного ожидания вожделенной минуты, когда русские сокровища града Китежа переменят свою национальность и станут французскими.
Я ежедневно писал нежные и пространные письма несравненной Клэр, но, увы, ни разу не получал ответа. Сердце мое болезненно ныло и где-то шевелился червячок ревности. В мои годы очень тяжело жить без женской ласки, без любви, а заведение тетушки Котиньоль так же далеко, как и моя несравненная родина.
Любовь! Увы, русские женщины не понимают этого слова, либо понимают его не так, как мы, французы.
Вот я закрываю глаза и вижу: Катюша Ветрова. Не правда ли, это звучит довольно поэтично и очаровательно — Катюша Ветрова? Ей девятнадцать лет, у нее громадные серые глаза и длинные русые косы. Но — fi donc — она ходит в высоких сапогах и кожаной куртке. Она курит скверные папиросы и не знает духов и пудры. И потом, пожалуй, это самое главное, — она работает! Да, да, — работает самым настоящим образом! Работает по 12–16 часов в сутки! Подумать только: девятнадцать лет, большие серые глаза, русые косы, очаровательное личико, и вдруг — сапоги, куртка, папиросы, тяжелая работа.
Давайте на минутку вместе зажмурим глаза и представим ее в другом, более подходящем оформлении. Замшевая туфелька и высокий прозрачный чулок…
Впрочем, нет, нет! Не надо, это опасно, мне нельзя, да я и не хочу забывать, что существует и ждет меня с победой Клэр!
О Клэр, слышишь ли?
А Катюша Ветрова… работает. Она секретарь нашего рабочкома.
«Вы, — говорит, — господин Жюлль, наш классовый враг и я прошу вас всегда об этом помнить!»
Ну что ж, мне действительно ничего не остается, как помнить. Я помню это и помню то, что я в России.