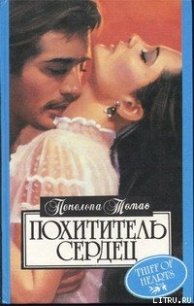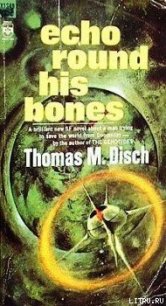334 - Диш Томас Майкл (список книг TXT) 📗
“Дорогая Рут”, — опять начала она, с новой страницы.
“Каждый раз как пишу тебе, убеждена, что ты не понимаешь ни слова. (Собственно, в половине случаев, когда письмо дописано, я его даже не отсылаю.) И не в том дело, что я просто считаю тебя дурой — хотя, наверно, считаю, — а в том, что ты так здорово насобачилась в этой не самой легкой нечестности, которую зовешь “верой”, что больше не способна видеть мир, каким он есть.
И все же… (с тобой никогда не обходится без спасительного “и все же”)… я продолжаю сама напрашиваться на твое непонимание — точно так же, как без конца напрашиваюсь к Мириам. Мириам — вы еще не представлены? — это последнее мое преображение “тебя”. Наихристианнейшая, сексапильнейшая евреечка; как иных манят гладиаторские бои, так ее — ересь. В худшие моменты она может быть сентенциозна прямо как иногда ты; но временами я убеждена, что она действительно испытывает… не знаю, как и назвать… но по-другому, чем я. Может, дело в чем-то эдаком высокодуховном — хотя от одного слова меня передергивает. Например, гуляем мы по саду, любуемся на колибри или еще — что, а Мириам погружается в свои мысли, и кажется, те так и мерцают, словно огонек в алебастровом светильнике.
Иногда, правда, возникает подозрение, а вдруг я все выдумываю. Глубокомысленно молчать рано или поздно выучивается любой дурак. Чтобы задуть огонек в светильнике, достаточно одного слова. До чего же убийственно серьезна эта ваша высокодуховностъ, и твоя, и ее! “Плетенье корзин”, подумать только.
И все же… я с радостью (это признание) собрала бы чемодан и улетела бы куда-нибудь в Айдахо, и научилась бы тихо сидеть и плести корзины или еще какое-нибудь такое фуфло, только бы развязаться со всей этой здешней жизнью. Научиться дышать! Иногда в Нью-Йорке мне просто страшно — а противно почти всегда, — и чем старше становлюсь, тем реже и реже дают о себе знать те моменты Цивилизации, что призваны компенсировать опасность и боль, без которых здешняя жизнь уже немыслима. Да, я с радостью стала бы жить по-твоему (мне все представляется, это было бы примерно то же самое, как дать себя изнасиловать огромному, немому и, в конечном итоге, нежному ниггеру), только я знаю, так никогда не будет. Соответственно, мне важно знать, что ты там, в глуши, искупаешь мои городские грехи. Как столпник.
Тем временем я стану исполнят то, что представляется мне моим долгом. (В конце концов, мы же с тобой адмиральские дочери!) Город погружается в трясину — ну так в трясину он всегда и погружался. Чудо, что он вообще как-то работает, что не возьмет просто и…”
Вторая страница второго письма подошла к концу. Перечитав, Алекса осознала, что сестре такого не отправишь. Отношения их, и без того натянутые, такой дозы искренности просто не переживут. Фразу, тем не менее, она дописала: “… развалится”.
Через четверть тысячелетия после “Размышлений” и за пятнадцать веков до “Заката Европы” Сальвиан, марсельский священник, описал процесс, посредством которого свободные римские граждане постепенно низводились до положения рабов. Правящие классы наиболее выгодным для себя образом сформулировали законы о налогообложении и мошеннически претворяли те в жизнь образом еще более выгодным. Вся тяжесть содержания армии — а римская армия, естественно, была огромной, государство в государстве — ложилась на плечи бедноты. Бедняки еще больше беднели. В конце концов, доведенные до крайней степени нужды, некоторые бежали из своих деревень к варварам, пусть даже от варваров (по замечанию Сальвиана) ужасающе пахло. Остальные — те, кто жили далеко от границы империй, — обращались в “бегаудов”, или доморощенных вандалов. Большинство же, тем не менее, привязанные к земле собственностью и семьями, вынуждены были принимать условия богатых “потентиоре”, которым закладывали свои дома, земли, имущество и, в конце концов, свободу своих детей. Рождаемость упала. Вся Италия превратилась в пустыню. Снова и снова императоры вынуждены были приглашать из-за границы варваров поцивилизованней, чтобы “колонизировали” заброшенные фермы.
Городам же в то время доставалось еще более лихо, чем даже сельской местности. Сжигаемые и разграбляемые сперва варварами, а потом войсками (набиравшимися в основном тоже из уроженцев придунайских земель), которых посылали прогнать захватчиков, города, если можно так сказать, пребывали главным образом в руинах. “Хотя, несомненно, никто не хотел умирать, — пишет Сальвиан, — все же никто и не делал ничего, дабы смерти избегнуть”, — и он приветствует вторжение готов в Галлию и Испанию как освобождение от деспотизма совершенно прогнившего правительства.
“Дорогой мои Гаргилий”, — писала Алекса.
“Денек выдался еще тот, и вот уж какую неделю подряд. Дождь, грязь и слухи о том, что Радагез к северу от города, к западу от города, к востоку от города, повсюду сразу. Среди рабов бурление и ропот, но пока записываться в будущие наши победители сбежали только двое. В целом у нас не так уж все и плохо по сравнению с соседями. У Аркадия не осталось вообще никого, кроме той его кухарки, с явно превратным представлением о чесноке (вот уж кому самое место у варваров!), и египтяночки, которую привезла Мириам. Бедняжка не говорит ни на одном известном языке и, вероятно, не в курсе, что скоро конец света. Что до наших беглых, то первый — это Патроб, который всегда был смутьян, так что невелика потеря. Не хочется тебя расстраивать, но второй — это Тимарх, на которого ты возлагал такие надежды. У него случился очередной приступ волнения, и он разбил левую руку борцу у бассейна. Так что ему оставалось только бежать. Или, может, наоборот: разбить статую — это был прощальный жест. Как бы то ни было, Сильван говорит, починить статую можно, хотя следы, конечно, останутся.
Дорогой, я по-прежнему неколебимо уверена в нашей армии, но лучше, по-моему, будет виллу закрыть, пока слухи немного не успокоятся. Сильван — кому еще могу я сейчас довериться? — поможет мне закопать в укромном месте (как мы обсуждали в прошлый раз) столовое серебро, кроватные стойки и три оставшиеся кувшина с фалернским. Книги, те, что мне дороги, я заберу с собой. Хоть бы какая крошечная хорошая новость! А так душой и телом крепка. Если бы только ты не был за столько миль…— Она вычеркнула “миль” и вписала “стадий”. — …стадий от меня”.
На секундочку, на мгновение ока жизнь ее представилась Алексе в зеркале искусства с точностью до наоборот. Исчезла современная домохозяйка, примеряющая на себя классические одеяния; прошлое застыло, обернулось явью, и Алексе четко представилась через бездну лет та, другая Алекса — унылая сверстница, как правило, без труда избегаемая, женщина с пронзительным голосом и в нелепом платье, от которой и брак, и карьера требовали немногого, но и то она была не в состоянии дать. Неудачница или (что, может, еще хуже) посредственность.
— И все же, — сказала она себе.
И все же: разве не на таких, как она, держится мир?
Длилось это не более секунды. Вопрос восстановил комфортную перспективу, и послание Гаргилию Алекса завершит какой-нибудь взаправдашней нежностью, да так, что мороз по коже. Она напишет…
Но ручка исчезла. Ручки не было ни на столе, ни на коврике, ни в кармане.
Сверху зашумело.
Без двух минут полночь. У нее есть полное право пожаловаться; только она не знает, кто живет вверху, да и сверху ли доносится шум. “Дзынь-дзынь, — и, помедлив, снова, — дзынь-дзынь”.
— Алекса?
Кто зовет ее? Голос (женский?) казался совершенно незнаком. В комнате не было ни души.
— Алекса.
В дверях стоял Танкред, ну вылитый купидончик, в завязанной на бедрах старой шелковистой шали, лимонное на шоколадном.
— Ты меня напугал.
Левая рука ее автоматически вскинулась к губам; там, вновь материализовавшись, и была шариковая ручка.
— Я не мог заснуть. Сколько времени?
Он бесшумно шагнул к столу и замер, опустив ладонь на подлокотник кресла; плечи его оказались на одном уровне с ее, глаза смотрели, не мигая, словно лазерные лучи.