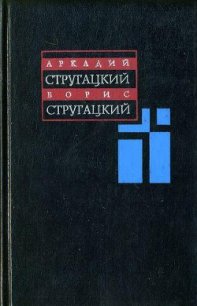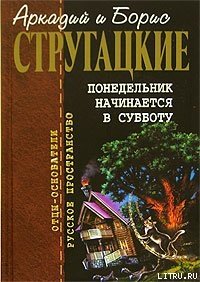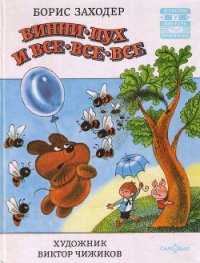Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики - Стругацкие Аркадий и Борис (серия книг .txt) 📗
На третий день он вышел вечером из дому, купил пачку сигарет и позвонил Лариске. Всю ночь (до пяти утра) они с ней ходили по кругу: Литейный мост, мимо бывшего французского консульства (где теперь была школа для тугоухих детей), мимо пристани речных трамвайчиков (где десять лет назад напали на них хулиганы – случай, рассматривавшийся в качестве кандидата на ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, но отвергнутый), по Кировскому мосту, мимо Дома Политкаторжан, мимо «Авроры», по мосту Свободы (бывшему Сампсониевскому, когда-то деревянному, уютному, узенькому, а теперь железному, широкому, важному), мимо стройки (раньше, до войны, здесь стоял так называемый Пироговский музей, огромное то ли еще недостроенное, то ли уже разрушенное здание, в блокаду оно сгорело под зажигалками, после войны там держали несколько тысяч пленных немцев, загадивших все анфилады, залы и аркады самым неописуемым образом, а теперь здесь возводили новую гостиницу), мимо желтого бесконечного фасада Военно-Медицинской Академии, и снова – на Литейный мост… Говорили мало. Курили. Иногда вдруг ловили взгляды друг друга, и тогда их словно бросало друг к другу – они судорожно обнимались и стояли так по несколько минут, щека к щеке, душа к душе… Что-то происходило в нем. (Да и в ней, наверное, тоже, но он об этом не думал тогда совсем.) Угли холодели и покрывались серым пеплом. Рану затягивало розовой сочащейся пленочкой. Кончалась одна жизнь и начиналась другая. Одни страхи уходили в никуда, другие приходили из ниоткуда… Равновесие восстанавливалось…
А спустя неделю он вдруг почувствовал, что может говорить и думать о ней совсем уже без боли, даже, пожалуй, наоборот, – он таким образом как бы отрицал ее исчезновение и утверждал присутствие. Впрочем, анализировать все эти ощущения ему не захотелось, надо было сначала выздороветь до конца. Если, конечно, от такого можно выздороветь до конца. (Потом оказалось, – можно. Не выздороветь, конечно, а перейти как бы на иной уровень здоровья – одноногий инвалид ведь тоже может считаться и даже быть здоровым, но – на своем уже уровне.)
И еще прошел один год, но, слава богу, спокойно, без потрясений и ударов, все успокоилось, они с Лариской поженились – тихо, без свадьбы, только Виконт, Сеня Мирлин да Жека Малахов с Татьяной сидели за столом, ели мясо по-бургундски, пили медицинский спирт и дружно исполняли отшлифованный репертуар:
Ах, как давно это было! Хрущ, кукуруза, глоток свободы, оттепель… «Один день Ивана Денисовича»… И как все навсегда миновало! Ну, может быть, и не навсегда. В конце концов, должна же экономика… Слушай, какая к шутам экономика? Трамваи ходят? Ходят. Чего тебе еще надобно, старче? Водка продается?.. «Будет пять и будет восемь, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу: нам и десять по-плечу. Ну, а если будет больше, тогда сделаем как в Польше…» Э, ничего они не сделают никогда!.. «Топ-топ, очень нелегки к коммунизму первые шаги!..» Слушайте, я вчера стою за пивом, а там мужичонка какой-то разоряется: робя, дела наши – кранты, с первого числа в два раза на водку поднимут, уже ценники переписывают, я вам точно говорю! А какой-то облом двухметровый ему: не посмеют! САХАРОВ НЕ ПОЗВОЛИТ!.. Слушай, ну чего ты орешь на весь Карла-Маркса?.. Виконт, перестань трястись, теперь за это не сажают… А ты знаешь, за что был сослан Овидий? Существует сто одиннадцать вполне аргументированных версий, но скорее всего – скорее всего! – за обыкновеннейшее недонесение… Ну, знаешь, шуточки у тебя, боцман… Ладно, давайте лучше споем:
(…Черт его знает, ну почему вся нынешняя интеллигенция обожает все эти уголовные романсы? Со студенческой скамьи, заметьте! Уголовников боимся и ненавидим, а романсы поем ну прямо-таки с наслаждением!.. А это потому, братец, что у нас народ такой: одна треть у нас уже отсидела, другая треть – сидит, а третья – готова сесть по первому же распоряжению начальства… Начальство не трогай! Начальство это – святое. «Нет ничего для нашего начальника обременительнее, как ежели он видит, что пламенности его положены пределы!»…)
Какая, черт побери, голосина у Семки, все-таки… Слушай, Семен, ради нас с Лариской – разразись: «Во Францию два гренадера…» И Сема не чинясь встает и разражается. Голос его гремит так, что колыхается матерчатый абажур, а шея его раздувается и делается кирпично-красной. И все наслаждаются, – кроме Виконта, который терпеть не может громких звуков вообще…
Ребята, я вчера знаете кого встретил? Тольку Костылева! Он стал как слон. И важный, как верблюд. Знаете кто он теперь? Замзавгороно! Врешь!.. Клянусь!.. Господи! Толька – завгороно! Вы помните: «Форест, форест, форест»?.. Еще бы не помнить! И – хором в три глотки:
– «Форест, форест, форест… Энималс, энималс, энималс… Винтер, винтер, винтер… Он зе миддле оф зе роуд стэйс Иван Сусанин. Немецко-фашистская гидра камз.
– Вань, Вань, вилл ю телл аз зе вей ту зе Москов сити?
– Ай донт кнов, – сэйд Иван Сусанин.
– Вань, Вань, ви шелл гив ю мени долларс!
– Ай донт кнов, – сэйд Иван Сусанин.
– Вань, Вань, ви шелл гив ю мени рублз!
– Ай донт кнов, – сэйд Иван Сусанин.