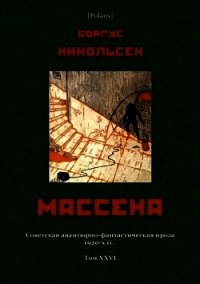Сокровища града Китежа Невероятное, но правдивое происшествие с предисловием издательства, приме - Мэнн Жюль
А ночь была черна и непроглядна, и все так же ласково, где-то у каналов, еле слышно, журчала вода.
Наконец наши восторги немного остыли и мы, не подымаясь из воды, тут же на месте устроили деловое совещание. После кратких, но ожесточенных дебатов решено было, что на поиски мы пойдем все вместе, рядышком, рука об руку. Что говорить, — мы не верили друг другу и каждый из нас боялся, что сосед прикарманит себе некую толику общих сокровищ.
Итак, мы поднялись и вместе пустились в поиски. Счет времени мы потеряли. Ночь была нашим покровом. Мы спотыкались и падали, но упорно бродили из конца в конец озера и ощупывали каждый бугорок, каждый камешек, каждое возвышение и неровность дна. Уже заалело на востоке небо, когда счастье улыбнулось нам.
Мы застыли. Мы присели.
— Здесь!
— Вот!
— Тут!
— Есть!
Несвязные, отрывистые слова. Лихорадочные движенья. Мы рвали руками обретенные сокровища, мы поскорее хотели унести их и спрятать от завистливых людских глаз. Но, глубоко засосанные илистым дном, они не поддавались.
— Лопату!
— Топор! Орудие!
— Лом!
Самый молодой и быстрый — я ринулся к конторе. Все проделано ловко, быстро, бесшумно. Я с лопатой, ломом и топором.
Свет с востока все быстрее и быстрее разливался по утреннему небу и мы лихорадочно спешили. Чудеса силы и ловкости проявил наш дорогой учитель. Он орудовал ломом, словно была это легкая тросточка.
О боже, ты всегда даешь силы на подвиг!
Наконец мы вырвали эти, несомненно наши по праву, сокровища у жадной, засосавшей их земли. О, они были тяжелы и массивны! Тут нужен был, по меньшей мере, десяток людей. Но на что не способен человеческий дух! Мы трое, да, только мы трое, в три приема дотащили наши сокровища до кабинета Бартельса.
Солнце уже пылало над лужицей, оставшейся от озера, и уже где-то был слышен человеческий голос. Но теперь это нам было не страшно. Контора была крепко заперта на все запоры. Тяжелыми шторами и ставнями закрыты все окна. Наконец-то мы наедине с нашими сокровищами!
Но даже человеческой воле положены пределы. Пережитые волнения и усилия выпотрошили нас и, обессиленные, мы опустились на пол рядом с нашими сокровищами.
Грязь и зловонная жижа расползались мутными потоками по полу. Мы любовно прильнули к обретенному сокровищу и нашим усталым, измученным телам было оно мягче самых нежных пуховиков.
Мгновенья отдыха отсчитывались ударами сердец.
Бартельс не выдержал:
— Друзья, друзья, — я не могу больше!
Он разрыдался и, рыдая, улыбался нам блаженно и счастливо.
Да, мы все можем сказать, что в этот миг, в этот незабываемый миг мы видели счастливые, подлинно счастливые лица. Эти счастливцы — мы!
— Друзья, я не могу больше!
С этими словами Бартельс яростно набросился на сокровища и начал отдирать от них грязь, ил, землю. Мы с дорогим учителем не замедлили присоединиться. Вдохновение овладело нашими сердцами и руками. Из глоток рвалось удовлетворенное и радостное урчанье. Так урчит зверь, празднуя победу и упиваясь кровью врага.
Мы не щадили себя. Руки сочились кровью, но мы упорно отчищали от вековой грязи наши сокровища. Мы жаждали увидеть их цвет, ощупать их руками, попробовать на вкус.
И вот, наконец, — твердое, упорное, не поддающееся расцарапанным в кровь пальцам. Со священным трепетом мы счищали последние следы грязи и ила.
— Дерево!
— Дерево?
— Дерево?
— Это ларец! — вдохновенно сказал кто-то…
21
Кто может вспомнить, как прошел этот день?
Вероятно, никто из нас не сможет, да и не захочет вспоминать. Мучительный, бесконечный — он, слава богу, прошел.
Когда погасли в лагере последние огни, когда отзвучала последняя, запоздалая песня, — мы вышли на крыльцо. Призрачными и ненастоящими казались лагерные сооружения в неверном свете луны. Темным провалом зияла колыбель бывшего Гнилого озера, бывшая могила града Китежа. Пьяными ароматами дышали болотные травы и в любовном томлении исходила песней полуночная пичуга.
Для лирических вздохов, для поэтических мечтаний все было налицо, но лицо-то и отсутствовало. Мы не вздыхали, мы не предавались мечтам. Минуту мы прислушивались. Убедились, что все необходимое (ночь, призрачный свет и уснувший лагерь) — в наличии. Легкой тенью я скользнул к гаражу и вывел машину. С потушенными фонарями, недвижимая — она казалась стальным и каучуковым мертвецом. Быстро и бесшумно улеглись один на другой чемоданы с нашими сокровищами. Мы потеснились, уступая им место.
Нажим рычага, поворот рулевого колеса, — мертвец ожил, зафыркал, запыхтел, дрогнул — и побежал навстречу ночи.
Мы молчали и слушали машину.
Мелькнул неясный силуэт подъемного крана, беззубые, застывшие в воздухе пасти землечерпалки, еще что-то, неясное, но знакомое.
Поворот — и место наших побед и поражений, такое знакомое и уже обжитое, скрылось от нас навсегда.
Полный ход! Машина вздрогнула, как лошадь от нагайки, и рванулась вперед. Она подпрыгивала на ухабах, мы — на сиденье. Я включил свет.
Ровными полосами помчался он впереди машины, выхватывая из ночи причудливые выбоины дороги.
Ночь мчалась впереди, ночь догоняла за спиной. Мы сторожко слушали ее и думали о своем.
Но что это?
Нет, это не наш верный «паккард»! Это какой-то посторонний, подозрительный звук.
Стоп!
Наш верный конь фыркнул и застыл, слегка вздрагивая. Я повернул выключатель и его светлый взгляд потух. Мы прислушались.
Да! Несомненно! Со стороны лагеря доносятся какие-то ритмические, нарастающие, приближающиеся звуки.
Минуточку! Не дышите! Да тише же, не шелестите страницей!
Ну, так и есть, — несомненно, это пыхтит наша вторая машина!
Мы взялись за руки и замкнутое кольцо обежало крепкое пожатье.
Увы! Нет никаких сомнений! И никто из нас не высказал предположение, что машина просто соскучилась и по своей доброй воле пустилась вдогонку за нами.
— Погоня! — сказал или подумал кто-то.
Промедление смерти подобно! Погоня! Рычаг! Еще рычаг! Предельная скорость.
Пусть дрожит и готово лопнуть стальное паккардово сердце. Вперед! Вперед!
Вихрем мчалась навстречу ночь, вихрем мчались мы в ночи и «паккард» трепетал, и сердце его металось в последней предсмертной борьбе.
Мы больше не останавливались, мы больше не прислушивались. Вперед, господа, вперед!
— Да держите же вы, старая калоша, чемоданы, — ведь они вылетят!
— Держу! — кротко отвечает Оноре Туапрео.
Разговор! Ха-ха, — веселый разговор и короткий.
Выплыли откуда-то слева спасительные огни города.
— Ура! Ура! Ура!
Вероятно, так кричали иудеи при виде тучных пастбищ земли обетованной. Рассказывают, что при этом они высоко подбрасывали, «качая» (качать его, качать!) дряхлеющего Моисея. Нас тоже высоко подбросило и стукнуло о чемоданы на первом городском ухабе.
Рязань! Боже, какой это милый и очаровательный город… Вообще, что может быть лучше глухой провинции… которую, слава творцу, вы покидаете навсегда!
Шарахались шариками под колеса ожесточенные рязанские псы и пытались прокусить шины. Но шины были упруги и не собачьим зубам ухватить их! А целеустремленность наша была ясна и непреклонна.
Ну вот и вокзал.
Вокзал, господа! Вы чувствуете этот запах, специфический запах путешествия и приключений, которым пахнут все вокзалы мира? Они еще пахнут карболкой, — гигиена — мать здоровья! Но ведь карболка никогда не мешала романтике, а романтика всегда мирно уживалась с карболкой. Итак, — романтика!
Извольте! Внимание, — романтика!
— Товарищ милиционер, нам не на кого оставить машину, не откажите в любезности присмотреть за ней!
Немедленно и строго нам было отказано в любезности.
— Не могу! Я на посту!
— Ах, бросьте поститься, товарищ милиционер! Пост — это религиозный дурман! А, впрочем, почему такая чрезмерная веселость и двусмысленные каламбуры? Нам некогда. Вот пришел наш поезд, мы спешим. Прощайте, товарищ милиционер!