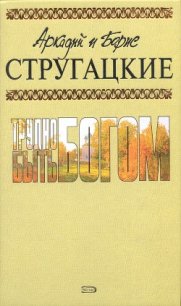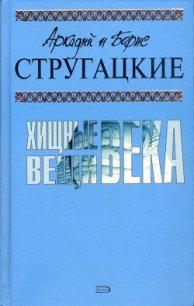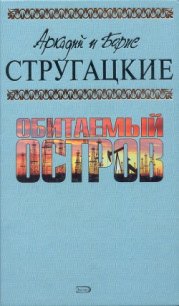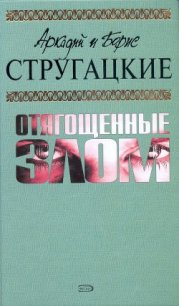А.и Б. Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Т.9 - Стругацкие Аркадий и Борис (читать полные книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
И тут он понял, что уже некоторое время — кричит. Этот крик (вой, вопль, хрип), все последние дни сидевший колом у него в грудине, прорвался, наконец, как фурункул прорывается, и густым гноем хлынул наружу. Он услышал себя и сразу же замолчал. Лица висели перед ним, озаренные неестественным и мертвым прожекторным светом, которым залито здесь было все, и страх, перемешанный с отвращением, сменялся на этих лицах недоумением и раздражением.
— Все, — сказал он им громко. — Все. Больше не буду.
И тут же их пропустили. Словно этот его вопль оказался последним и решающим аргументом в суконном споре об уставах и инструкциях.
Потом они быстро шли по длинному белому коридору. По бесшумному белому полу. Пахло больницей. Все и здесь тоже было залито беспощадным светом, и сухая жара стояла, и было в этом коридоре что-то неуловимо странное, — какие-то странные люди вдоль стен, или что-то в раскрытых то справа, то слева дверях, или в растениях, заплетающих местами стены и потолок, или, может быть, звуки какие-то, вовсе здесь неуместные, раздавались… Не было ни времени, ни особого желания разбираться во всех этих странностях — хотелось сесть где-нибудь в темном (обязательно темном!) уголку, или лучше даже прилечь, закрыть глаза и отвлечься. Но не давали ему ни присесть, ни отвлечься — впереди широко и мощно вышагивал товарищ полковник, а рядом (слева и сзади) кто-то железными пальцами держал за локоть и направлял. Все были уже в белых докторских халатах, белые полы развевались и парусили, пальто пропало куда-то, шлепанцы, не приспособленные к такому темпу, норовили потеряться, и ноги уже больше не мерзли, сделалось тепло и даже жарко.
Они вошли в комнату, которая после ослепительного коридора показалась совершенно темной, и он механически закрыл глаза, чтобы побыстрее привыкли. Комната оказалась большая, в ней было полно мигающей разноцветными огоньками аппаратуры, каких-то подсвеченных снизу пультов, слева за стеклянной выгородкой стояла молоденькая медсестра с испуганными глазами, тоже подсвеченная снизу желтым и синим, а справа в едином ряду, со щедрыми интервалами между, светились в сумраке белые высокие койки-каталки, — четыре свободные, а на средней лежал Виконт.
Ему показалось сначала, что все уже кончено. (Он с самого начала убежден был и знал, что вся эта грубая казарменная суета — ни к чему: поздно, напрасно и неприлично.) Виконт лежал маленький, бело-серый, абсолютно неподвижный, белели неприятные щелочки между ресницами, какие-то тоненькие прозрачные трубочки засунуты были ему в обе ноздри, и еще одна трубочка поднималась к полупустой капельнице, и еще шнуры, тонкие и разноцветные, тянулись из-под ворота рубашки к включенному монитору, установленному на длинном (вдоль изголовий всех пяти коек) стеллаже. Но все-таки окостенелой неподвижности мертвеца не ощущалось. Виконт дышал еще. Цеплялся. На самом краешке. Отчаянно и жалко втягивал в себя тончайшие струйки жизни через все эти трубочки и провода.
Он сел рядом с койкой на мгновенно подставленный стул и привычным движением взял искалеченный сморщенный кулачок в свою левую руку. Кулачок был влажно-прохладный, совсем вялый, но живой, и два уцелевшие пальца-коготка тотчас же сжались, вцепились, стиснули слабо, отчаянно и жадно, как будто ждали его здесь много и много последних часов подряд.
Он ощущал себя некоей капельницей. Что-то истекало из него и по руке, невидимой и неощущаемой струйкой, перетекало в бледно-серого, маленького, кучерявого, недвижного человечка — очень одинокого в этом мире, почти уже в этом мире не существующего… Да и в этом ли мире находился сейчас Виконт… он же Киконя, бывший веселый шкодник, он же Виктор, оказывается, Григорьевич Киконин — человек в авторитете? Одинокий полутрупик в сумеречной комнате с бесшумными огоньками на пультах и мониторах. Родственников — нет. Родителей нет практически. А может быть, — вовсе. Друзей нет… Есть, правда, почитатели, сотрудники, коллеги, ученики, вероятно, но это же — совсем не то. Твои друзья и твои родичи это — ты, часть твоя, плоть твоя. А ученики, коллеги, поклонники — это всего лишь плоды твоей деятельности, как написанные тобою статьи, как книги, как картины… кирпичики, из которых сложил ты дом свой, в котором живешь и умираешь… У него же никого нет, кроме меня, подумал вдруг Станислав со странным чувством не то удовлетворения, не то страха, не то радости. Только про меня одного в этом мире он может сказать: «Ты — это я»…
Но ведь и у меня нет больше никого, кроме него, подумал он некоторое время спустя. Теперь — нет. Вот уже несколько суток как нет. Никогошеньки. Мне надобно держаться за тебя, Виконт. Нам надобно держаться друг за друга, Виконт, ваше сиятельство… Что мы и делаем. Он истерически хихикнул и стесненно огляделся.
Никого не было. Даже девчушка ушла куда-то, исчезла незаметно и бесшумно, забросив свои экраны и пульты. В дверях, правда, стоял кто-то, — темная фигура в ярко освещенном проеме, Станислав не стал присматриваться, кто это там и что ему надо. Новое ощущение схватило его, словно огромный невидимый паук, выскочивший из ничего. Это было ощущение ледяного одиночества. До сих пор он казался себе неким ампутированным обрубком, корявым инвалидом, у которого безжалостно и внезапно откромсали, оторвали, повыдергивали большие куски тела, души, сердца, мозга — всего, что попадало под нож и под клещи. Он валялся, кровоточа и задыхаясь, под ногами и взглядами и все тщился, мучаясь и корчась, заползти в какую-нибудь нору потемнее и потеснее… А тут вдруг ему открылось, что на самом деле он — один. Он до такой степени один, что его (как и Виконта) уже как бы и нет в этом мире. Кровавый пузырь, какие вздуваются, наверное, на месте только что отрубленной головы… («…а вместо головы — пузырь кровавый…») Ему сделалось страшно, и он понял, что жизнь возвращается. Это не обрадовало его, и не огорчило, он просто принял это к сведению: жизнь все-таки возвращается опять. Она всегда возвращается, если не приняты специальные меры.
Часов не было. Ничего не происходило. Ничего не изменялось. Но когда он пытался переменить позу, Виконтовы когти впивались ему в ладонь и становилось больно. В какой-то момент он кроме боли ощутил там влажное и липкое. Это показалось ему странным и даже встревожило, но он быстро догадался, что это прорвался водяной волдырь, образовавшийся на месте ожога.
Захотелось в уборную. Вернувшаяся жизнь брала свое. Он огляделся. Девушки за пультом не было по-прежнему, а в дверях по-прежнему стоял неподвижный, черный, неуловимо странный человек, и Станислав подумал: он ведь и позы не переменил с тех пор, вот странно. Человек этот казался манекеном, которого кто-то поставил в проеме дверей — по рассеянности, или же с умыслом. Только у манекенов в витринах бывают такие ломаные линии тела. Только манекены умеют быть до такой степени неподвижными… И тут он вспомнил белый коридор, по которому они давеча шли как в атаку. Странные люди вдоль стен… И странные люди в глубине плохо освещенных комнат… Они все были такие же — неподвижные, закоченевшие навсегда манекены… И у них были синие лица!.. СИНИЕ. Не иссиня-черные, какие бывают у негров, и не иссиня-смуглые, как у некоторых любителей загореть, а именно синие, синюшные, — лица удавленников…
Он попытался рассмотреть, какое лицо было у того, что торчал в дверях, но против света оно казалось просто черным, как и все остальное у него. Он отвлекся. Виконт вдруг задышал часто-часто, личико его покрылось испариной, толстые негритянские губы жалобно перекосились. Что-то происходило с ним. Что-то необычное. Такого раньше не бывало. Раньше он просто лежал в обмороке час или два, вцепившись Станиславу в руку уцелевшими пальцами-когтями, серый, бездыханный, с пульсом-ниточкой и с закаченными глазами, а потом вдруг приходил в себя — отпускал руку, розовел лицом, решительно поднимался на ноги — как ни в чем не бывало — живой, здоровый и очень раздраженный и недовольный… Но ведь раньше не было у него никогда ни этой капельницы, ни проводов, вообще — врачей не было поблизости, и больницы этой, странной, строгой и неприятной…