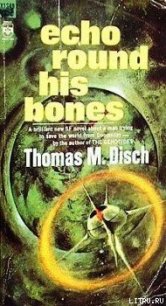Геноцид - Диш Томас Майкл (книга жизни TXT) 📗
В тот вечер Нейл первым вернулся домой и никак не мог понять, что Блоссом делает у него в туалете, почему она сидит, натянув грязные джинсы на голову, визжит, точно ее порют ремнем, и трепещет, как малиновка, которую поймали в разгар запоздалой апрельской вьюги. Но когда он поднял ее, все тельце девочки напряглось, и успокоилась она только после того, как ей было обещано, что ночевать она будет в постели Нейла. Наутро, когда она спустилась вниз, ее била лихорадка, так что родителям пришлось прервать поездку и вернуться домой, чтобы ухаживать за ней.
Никто так и не понял, что же произошло, поскольку Блоссом не решилась рассказать им про Чудовище, которого они видеть никак не могли. Со временем случай забылся. По мере того как Блоссом росла, образы ее ночных кошмаров постепенно претерпевали изменения: прежние чудища становились не страшнее лосиной головы над комодом.
Но, ничего не поделаешь, кошмары есть порождения темноты, и пока Блоссом то бежала, то кралась по корням, опускаясь все ниже и ниже, старые страхи вновь овладели ею. Так бывало, когда в их доме внезапно выключали весь свет. Темнота наполнялась чудовищами, как ванна водой, а она неслась вниз по коридорам и лестницам, ища спасительную дверь в туалет.
В течение всех долгих дней, пока ее отец умирал, и даже еще раньше, Блоссом была так одинока! Она чувствовала, что отец хочет сказать ей нечто важное, но сдерживается. Эта отчужденность глубоко задевала ее. Ей казалось, он не хочет, чтобы она видела, как он умирает, и, делая над собой усилие, она держалась в стороне. Она привыкла находиться в обществе Элис и Мериэнн, но они были заняты только ребенком. Блоссом была бы и рада помочь им, но по молодости лет ее до этого не допускали. Она была в том возрасте, когда человеку становится одинаково неуютно от крайностей жизни, будь то рождение или смерть. Она топталась на обочине этих важнейших событий и ужасно жалела себя за то, что не принимает в них никакого участия.
Воображение рисовало картину ее собственной смерти: о, как они все опечалятся, как будут горевать и сожалеть, что отталкивали ее!
Даже у Орвилла не было времени для Блоссом. Он либо уходил куда-то в одиночестве, либо был возле Андерсона. Только Нейл, кажется, больше уделял внимания старику, угасавшему на глазах. Когда пути Орвилла и Блоссом пересекались, он буквально пожирал ее взглядом. Это было невыносимо, и девочка, краснея, отворачивалась, ей даже становилось жутковато. Ей уже больше не казалось, что она прекрасно его понимает, но это, кстати, в какой-то степени и усиливало ее чувства — это была уже настоящая любовь, пылкая и безнадежная.
Но ни одно из этих обстоятельств не толкнуло бы ее на побег невесть куда, ну, разве что, в дебри разыгравшейся фантазии. И лишь когда затуманенный взор ее упал на лицо Нейла, когда она увидела его выражение, когда до слуха долетело ее имя, произнесенное каким-то особенным тоном, только тогда Блоссом, точно вспугнутая лань, почуявшая охотника, прянула в ужасе и помчалась прочь: прочь — в глубину, под спасительный покров темноты.
Она бежала вслепую и, следовательно, по одному из отростков неизбежно должна была попасть в главный корень. Даже если быть осторожным, в темноте все равно туда забредешь,
Темнота поглотила ее.
У нее подкосились ноги и, падая, она коленями ткнулась в мякоть плода, а затем и всем телом глубоко увязла в упругой, податливой плоти. Она погружалась все глубже, однако во время падения не расшиблась и ничего не сломала, в отличие от Элис Нимероу, чье покалеченное, но еще не бездыханное тело лежало в нескольких дюймах от Блоссом.
Он слишком медлил, он, Джереми Орвилл, слишком долго тянул. Он хотел отомстить, а вместо мести — помогал. День за днем он наблюдал, как Андерсон умирает, видел его предсмертные муки, его унижение, прекрасно понимая, что он, Джереми Орвилл, не имеет к этому никакого отношения. До такого падения, до такого конца Андерсона довели Растения и длинная цепь случайностей и совпадений.
Словно Гамлет стоя рядом с Андерсоном и повторяя «Аминь!» по завершении его молитв, Орвилл своими искусными уловками обманывал только себя. Он так жадно стремился стать единственным источником страданий Андерсона, так хотел заменить Растения, что поневоле вывел старика и его племя в край, где среди кисельных берегов текут молочные реки. И вот его враг погибал, поверженный нелепой случайностью, — умирал от инфекции, занесенной крысиным укусом в кончик пальца.
В полном одиночестве Орвилл предавался этим мыслям, а в пустом пространстве, из кромешной тьмы выплывал призрак и обретал очертания некоего образа. День ото дня видение становилось все более явственным и четким, но и с первого раза в неровном белесом мерцании он узнал ее — это была Джеки Уити. Но эта Джеки не была похожа на настоящую: она была более юная, гибкая и обольстительная — само воплощение грации и изящества,
Она пускалась на всякие ухищрения, так хорошо ему знакомые, чтобы вновь вырвать у него признание в любви. Он клялся, что любит, но ей было мало, она не верила и требовала повторять слова любви снова и снова.
Она напоминала ему о ночах, проведенных вместе, о несметных богатствах юного тела… и об ужасной, кошмарной своей смерти. Всякий раз вслед за этим она вновь спрашивала: «Ты любишь меня?»
«Да, да, — упорно отвечал он. — Я все так же люблю тебя. Неужели ты сомневаешься?»
Его мучило желание снова обладать ею. Он страстно молил подарить ему еще один, прощальный поцелуй, хотя бы легкое прикосновение, всего лишь вздох, но получал отказ.
«Меня убили, — напоминала она. — А ты так и не отомстил за меня».
«Кого ты выбираешь? — громко спрашивал он, сжимая топор, который все время носил с собой и то и дело принимался править. — Назови имя, и вот этим топором…»
«Блоссом! — с готовностью ревниво шептал призрак. — Ты отрекся от меня ради этого ребенка. Ты соблазняешь дитя».
«Нет! Если я и мог обманывать ее, то только ради тебя».
«Ну так покончи с ней теперь. Расправься с ней, и я снова вернусь к тебе. Тогда, только тогда я тебя поцелую. Тогда ты коснешься меня и ощутишь мое тело».
С этими словами она исчезла.
Он понимал, что это невозможно, что это бред, что он, может быть, сходит с ума. Но ему было все равно. Пусть это всего лишь призрак, но ведь она права.
Он тут же отправился на поиски и обнаружил свою жертву среди тех, кто собрался у тела ее покойного отца. Она стояла с краешку, не лезла вперед. Нейл Андерсон тоже был там и нес какую-то околесицу. Орвиллу было на все плевать.
И вдруг Блоссом, словно угадав его намерения, как безумная бросилась в мрачные коридоры Растения. Он помчался за ней. На этот раз он исполнит все, что должен исполнить: топором — аккуратно и быстро.
Блоссом изо всех сил стискивала в ладонях плотную свежую мякоть, которую отрывала от кожуры, но выдавить удалось лишь несколько капель маслянистой жидкости. На такой глубине было просто жарко — градусов восемьдесят [7] , не меньше, так что надежды, что этой влагой она сможет вернуть Элис к жизни, было мало. Она снова принялась массировать худые старушкины руки, щеки, все ее обмякшее тело. Она автоматически повторяла одни и те же ободряющие слова:
— Элис, миленькая, пожалуйста… Проснитесь, ну, постарайтесь же… Элис, это я — Блоссом… Элис?! Ведь правда же, уже лучше?.. Ну, пожалуйста!
Наконец та застонала, и Блоссом поняла, что она приходит в себя,
— Элис, вам лучше?
Элис сделала попытку заговорить, но звук, который должен был походить на голос, разрешился лишь хриплым, глубоким вдохом. Когда же ей наконец удалось произнести хоть слово, голос ее прозвучал неестественно громко и уверенно:
— Бедро. Думаю, что оно… конечно, это перелом.
— Нет! Элис! Вам… вам очень больно?
— Адская боль, детка.
— Почему он так поступил? Почему Нейл… — Блоссом умолкла. Она не смела назвать вещи своими именами.
Теперь, когда Элис очнулась, ее собственные смятение и страхи обрушились на нее с новой силой. Как будто она так старательно приводила Элис в чувство лишь затем, чтобы та объяснила ей, Блоссом, что Чудовище не настоящее, что это всего лишь игра воображения.
7
+80° по шкале Фаренгейта соответствуют +27° по шкале Цельсия.