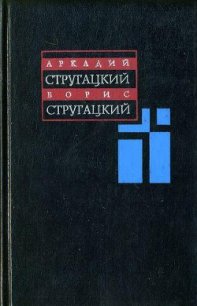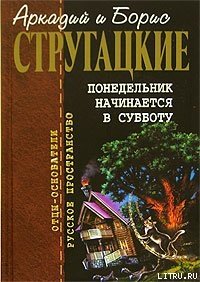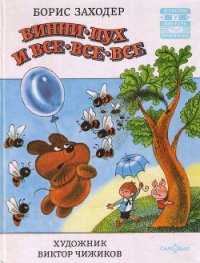Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики - Стругацкие Аркадий и Борис (серия книг .txt) 📗
Добиться у Виконта сколько-нибудь вразумительного ответа было невозможно. Он никогда и ничего не рассказывал о своей работе. Никому. Да и некому было ему об этом рассказывать. У него не было друзей, если не считать Станислава.
Когда у Станислава собиралась обычная компания, Виконт (изредка) вдруг ни с того ни с сего принимался рассказывать о чужих странах. Рассказчик он был редкостный. Все затихали, когда на него это находило, и слушали не дыша, боясь, что он спохватится и закончит говорить так же неожиданно и беспричинно, как и начал.
Начинал он всегда с середины, с некоего непонятного пункта, представлявшегося ему, видимо, ключевым…
– Белый пояс вокруг горы… – начинал он например. – Белые деревья… вернее, белые скелеты деревьев в тошнотворном ядовитом тумане. Будто под ногами не дикая гора, а какое-то забытое богом испаряющееся кладбище… кладбище нелюдей… И в тумане – колючие остролистые растения, которые называются здесь «терновый венец Христа»… И гигантские пауки, раскинувшие паутину между растениями… Земли не видно совсем – сплошь густой уродливый мох да ямы, наполненные черной водой, а на каждом белесом стволе – омерзительные, скользкие, многоцветные грибы…
Узкое лицо его становилось серым, словно от невыносимой внутренней боли, голос садился – воспоминание мучило его как болезнь. Эти рассказы, и даже не сами рассказы, а манера рассказывания, производили на слушателей впечатление ошеломляющее. И на Станислава, разумеется, тоже. Виконт казался ему в эти минуты сверхчеловеком, или человеком из ада, или даже оборотнем – он переставал узнавать его в эти минуты…
А потом он вдруг встретил один из Виконтовых рассказов в книжке, изданной Географгизом (кажется, это был Кауэлл, «В сердце леса»). Совпадение было почти дословное. В первый момент он глазам своим не поверил. Потом – разозлился. Потом – восхитился. А потом подумал: какого черта он это делает, пижон задрипанный?..
Конечно, он был пижоном. Он был пижоном во всех своих проявлениях, – в разговоре, в литературных пристрастиях, в обыденной жизни. Становясь в очередь к пивному ларьку он мог спросить с неописуемым высокомерием: «Н-ну-с, кто тут не побоится признаться, что он последний?» На дрожащих с похмелья остервенелых алкашей это производило неизгладимое впечатление…
На низеньком полированном столике у него стояла обширная деревянная чаша, черная, с золотыми драконами. С острова Минданао. Чаша была полна курительными трубками. Их там было штук тридцать – от самодельных корявых негритянских носогреек до тяжелых, прикладистых, словно пистолет, самшитовых – (?) – музейных, антикварных, именных… Он, не глядя, запускал левую свою, беспалую, руку в эту груду, в эту кучу, в эту провонявшую перегаром роскошную свалку, безошибочно извлекал искомое, привычно орудуя, набивал, раскуривал от спички, закутывался медвяным дымом, – щурил левый, слепой, глаз… И вдруг произносил с подвыванием:
«Кто такой Стак?» – осведомлялся Станислав, стараясь преодолеть впечатление. «Какая тебе разница?.. – отвечал Виконт с величественным раздражением. – Ну, например: СТА-нислав К-расногоров – это тебя удовлетворяет?» «Ладно, хорошо… А почему Само? Нет никакого Само, есть – Сомо». «Потому что димуАмо – звучит, а димуОмо – нет». И это было совершенно справедливо: димуамо – звучало, а димуомо почему-то – нет…
Когда они познакомились (в пятом классе) это был мелкий, не опасный, но остроумный хулиган. Он ходил тогда в клешах, развалистой походкой бывалого моричмана и носил тельняшку. Он был шкодник. Мастер шкоды. Однажды они вместе дежурили в классе на перемене. Была весна сорок пятого. Класс гудел, топотал и клубился в коридоре, а они сидели на подоконнике классной комнаты на втором этаже и смотрели вниз. Сначала там не было ничего интересного, а потом вдруг на панели под самым окном объявился директор школы. В шляпе. Выдержать это было невозможно, и Виконт (тогда он был еще всего лишь Кикон или Киконя) сейчас же харкнул на эту шляпу и, разумеется, попал.
Все было как в душном тягучем кошмаре. Как в замедленном кино. Директор остановился… аккуратно снял шляпу… внимательно изучил свисающее с нее… и принялся – неописуемо, мучительно, изнуряюще медленно – поднимать голову…
Их вихрем снесло с подоконника. Они, как две торпеды, вылетели в коридор, и тут Станиславу показалось, что Кикон совсем обезумел от страха: он вдруг подскочил к Папаше – самому страшному, беспощадному и могучему хулигану пятого «а» класса – и залепил ему по рылу!
Папаша обалдел. Он был на две головы длиннее маленького Кикона, и с высоты своего роста пучил на него очумелые свои шары, совершенно, видимо, утратив сцепление с реальностью. Тогда Кикон влепил ему по морде вторично… И вот тут – началось!..
«Киконя Папаше по чавке накидал!» – пронеслось, казалось, по всей школе. Мгновенно образовалась толпа жадных зрителей и болельщиков. Папаша наконец осознал, что с ним произошло, и, ревя дурным голосом, обрушился на наглеца, работая сразу всеми четырьмя своими гигантскими конечностями… Так что когда директор со шляпой и со всем, что с нее свисало, возник, наконец, в коридоре, на него сначала даже не обратили внимания.
«Кто это сделал?» – гремел директор, высоко воздевая шляпу, но его не слышали и не видели. «Прекратить драку!» – гремел директор, но это уже была не драка, это была воспитательная работа, спецпроцедура, и прекратить ее просто так было невозможно… И когда наконец порядок установился, и в наступившей подобострастной тишине директор задал свой главный вопрос: «Кто дежурный?!!!», Кикон радостно откликнулся: «Я!» – с кровавым носом, с подбитым глазом, в рубахе, разодранной до пупа, – и сразу же стало ясно, что это – не он преступный грешник, что там его не было, его там просто не могло быть, он был здесь , а кто был там , – он не знает и знать никак не может…