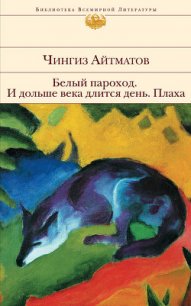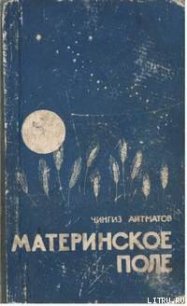Тавро Кассандры - Айтматов Чингиз Торекулович (книги без регистрации txt) 📗
И тут поднялся шум в зале. Это было странное, диковинное зрелище: журналисты вскакива-ли с мест, рвались к микрофонам, размахивали руками так, как будто перед ними не телеизобра-жение, передаваемое из космоса, а сам Филофей на сцене. А он слушал их на экране, сжав губы и прищурившись, стараясь сохранять спокойствие.
Было видно, как лицо его свела судорога боли. И вряд ли эту встречу можно было называть пресс-конференцией. По разгулу страстей она ничем на отличалась от митинга. Каждый дорвав-шийся до микрофона лишь называл себя, свою газету, информационное агентство и тут же требовал космического монаха к ответу. И никаких философий, практика жизни превыше всего! Филофею не давали рта раскрыть. Должно быть, ему стало дурно. Он вдруг исчез с экрана. В зале поднялся переполох. Экран пустовал.
— Где вы? Что с вами? — вскричал Уолтер Шермет.
Но вот он снова возник, держа в руках космонавтский скафандр.
Голоса в зале на мгновение стихли. Все были удивлены — к чему это? А Филофей стал молча облачаться в скафандр. Энтони Юнгер воспользовался этой паузой. Он поднялся с места и стал говорить, обращаясь к залу:
— Я прошу присутствующих выслушать меня, поскольку я один из устроителей этого телемоста. И у меня в этой связи есть свои обязанности и права. Прежде всего хочу сказать Уолтеру Шермету, что дальнейшее ведение пресс-конференции я просил бы уступить мне. Вы свое сказали, Уолтер Шермет. А то, что происходит в зале, мало чем похоже, к сожалению, на деловую журналистскую встречу. Пресс-конференция предполагает вопросы и ответы. Пока что профессиональных вопросов не последовало. Эмоции затмевают логику. Мне не раз приходи-лось принимать участие в пресс-конференциях, но такого еще не бывало! Даже когда разрази-лась недавняя война в Персидском заливе, вопросы были разноречивы и выражали разные позиции. А сейчас каждый пытается прозвучать в унисон, непременно в хоре. И все дружно подписывают один и тот же приговор.
— Позвольте, Энтони Юнгер, — не утерпел Уолтер Шермет, — но почему вы в таком случае пытаетесь навязать аудитории, да что там аудитории — всему миру свои мысли? И почему в то же время лишаете права выразить свою точку зрения других участников встречи?!
— Уважаемый Уолтер Шермет, я понимаю, ситуация такова, что можно в мгновение ока нажить громадный политический капитал, засвидетельствовав по телевидению свою предан-ность народным массам, выступив защитником общества, не так ли? Но истина от этого не прояснится. Не тот случай. И потому я призываю отрешиться, пока не поздно, от политики, от соблазнов ее, да, отойти, если это нам удастся, от любимой нашей политики в какой бы то ни было ее форме, иначе мы не приблизимся к существу проблемы. Постижение истины требует мужества и реализма.
— А в чем же ваша истина и ваше мужество? — выкрикнул кто-то из зала.
Уолтер Шермет удовлетворенно кивнул головой, вызывающе заулыбался. Зал насторожил-ся, примолк.
— Насчет мужества, — произнес с расстановкой Энтони Юнгер в наступившей тишине, — не мне судить, насколько я обладаю им. Но обратимся к делу. Вот перед нами на экране человек, совершивший великое научное открытие, беспрецедентное в истории, я бы даже так сказал. По душе оно нам или нет — это вопрос другой. Это наука. Брат Филофей — а для меня он отец, отец Филофей, — пытается раскрыть нам глаза на значение проблемы кассандро-эмбрионов для человечества. Еще один наш выдающийся современник, погибший сегодня от рук толпы, футуролог Роберт Борк, расценил открытие Филофея как новый шаг в эволюции человеческого духа. Он выступил в печати. И это явилось его последним словом, его заветом. Я не претендую на собственные оригинальные оценки и выводы, но я хотел бы сказать: мы не должны игнориро-вать проблему кассандро-эмбрионов, исходя из своих сиюминутных интересов. Вот о чем идет речь. И теперь зададимся вопросом к себе и по понятным причинам к самому отцу Филофею. Как быть отныне человеку перед лицом ставших известными людям кассандро-эмбрионов?
— Мистер Юнгер, — раздался в рядах женский голос. — Простите, не очень ли вы энергич-ны в постановке вопроса? О каком лице, тем более эмбриональном, может идти речь? Вы желали профессиональных вопросов. Так вот, ответьте для прессы, для миллионов читателей и телезрителей, которых вы продолжаете ввергать в шок и отчаяние, хотелось бы услышать ясно и недвусмысленно, что вас понуждает в конце-то концов, почему вы с Филофеем так стремитесь навязать обществу эту роковую проблему, когда вас об этом никто не просит, ни одна душа?
— Вот именно просит, мадам. И не то что не одна, — просят души, не поддающиеся счету. Голоса зародившихся апеллируют к нам, просят всех нас услышать их и подумать не столько о них, сколько о нас самих; а мы избегаем ответа им и ответа себе, мы малодушничаем, тем более что отмахнуться от этих несчастных эмбрионов очень легко, пусть ценой самообмана, и в этом мы все повинны, включая и нас с вами, мадам, и предшествующие поколения наши. Эти голоса, повторяю, обращенные ко всем нам, нуждаются в том, чтобы их расслышали, распознали, интерпретировали, что и сумел сделать великий Филофей. Я вынужден говорить о его величии в его присутствии, вот он перед нами на экране, но другого выхода у меня нет. Да, он великий. Вот вы настаиваете, чтобы я объяснил, что, как вы выразились, понуждает нас навязывать обще-ству эту роковую проблему. Разве, скажем, Эйнштейн в принудительном порядке вынужден был открыть теорию относительности? Так же и Филофей — это ученый, это наука, это призвание, это дар провиденья, это опыты и открытия, это работа ума. Я так понимаю. Такому открытию нельзя сопротивляться, как нельзя сопротивляться выходу солнца из-за горы. Нам, людям, обще-ству надо определиться — вот о чем речь… Мы должны сказать себе… Человечеству отныне нужна новая стратегия жизни…
В этот момент Уолтер Шермет резко поднял трубку телефона, стоящего на столе перед ним, и коротко бросил кому-то:
— Коммутатор, вы готовы? — и, не кладя трубку, нервно обратился к Энтони Юнгеру: — Вы хотите услышать ответ международной общественности на вашу с Филофеем риторику? Вы хотите убедиться?
— Что вы имеете в виду?
— То, что наша пресс-конференция демонстрируется на площадях городов в разных концах мира. Ведется синхронный перевод. Так давайте сообща все находящиеся здесь посмотрим, что происходит на планете, какова реакция масс на суждения монаха Филофея и его сторонников. Еще раз напоминаю — разные точки мира, разное время суток, разные языки. Итак, внимание! — скомандовал он в телефонную трубку. — Включайте центральный монитор. Итак, дайте нам для начала Тяньаньмэнь, посмотрим, что делается в Пекине, столице самого многонаселенного государства.
На большом экране, засветившемся в центре сцены, возникла многолюдная площадь Тяньаньмэнь с промелькнувшим на фасаде неизменным портретом Мао Цзэдуна с каменным выражением лица, в сером кителе вождя. Страшное столпотворение на площади под каменным взглядом Мао напоминало бушующий людской океан. Китайцы неистовствовали и орали, как на пожаре. Комментатор сообщал, что такое на площади было только в 1989 году, при подавлении студенческих волнений. «Слушайте единый выкрик Тиньаньмэня, — продолжал комментатор. — Цитирую: „Смерть Филофею! Сбить врага социализма ракетой!“ Зал глядел на Филофея, на бледность, проступавшую на его лице, различимую даже с экрана, на застывшего в напряжении у микрофона Энтони Юнгера, на Уолтера Шермета, который давал команды:
— А теперь — Москву, Красную площадь! Внимание!
То же самое происходило и на Красной площади. Предрассветное время. Горели костры. И ревели толпы: «Смерть самозваному Филофею! Сбить провокатора ракетой!» И странно было заметить над этой возбужденной, гомонящей толпой несколько раз промелькнувшую на экране, на что все невольно обратили внимание, ночную птицу, очень похожую на сову. Птица эта, точно она была на невидимой привязи, дергалась, металась в сумраке над мавзолеем, над Кремлевской стеной и снова над толпами орущих людей…