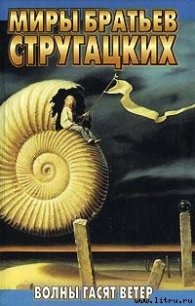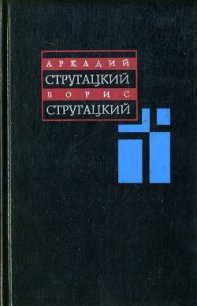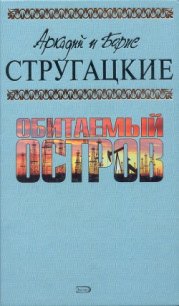Парень из преисподней, Беспокойство, Жук в муравейнике, Волны гасят ветер - Стругацкие Аркадий и Борис (онлайн книга без .TXT) 📗
- Что это у вас сегодня с музеем? Никого не пускают…
Кажется, она немножко удивилась:
- Не пускают? Разве?
- Ну я же вам говорю! Еле-еле пропустили через служебный вход.
- А, да… Простите, кто вы такой? У вас ко мне дело?
Я повторил, что я Максим Каммерер, и принялся излагать свою легенду.
И тут произошла удивительная вещь. Едва я произнес имя Льва Абалкина, как она словно бы проснулась. Рассеянность исчезла с ее лица, она вся вспыхнула и буквально впилась в меня своими серыми глазами. Но она не произнесла ни слова и выслушала меня до конца. Она только медленно подняла со стола свои безвольно лежавшие руки, скрестила длинные пальцы и положила на них подбородок.
- Вы сами его знали? - спросила она.
Я рассказал об экспедиции в устье Голубой Змеи.
- И вы обо всем этом напишете?
- Разумеется, - сказал я. - Но этого мало.
- Мало - для чего? - спросила она.
На лице ее появилось странное выражение - словно она с трудом сдерживала смех. У нее даже глаза заблестели.
- Понимаете, - начал я снова, - мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. На стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде…
- Но он же не стал специалистом в своей области, - сказала она.
- Они же сделали его Прогрессором. Они же его… Они…
Нет, не смех она сдерживала, а слезы. И теперь перестала сдерживать. Упала лицом в ладони и разрыдалась. О Господи! Женские слезы - это вообще ужасно, а тут я вдобавок ничего не понимал. Она рыдала бурно, самозабвенно, как ребенок, вздрагивая всем телом, а я сидел дурак дураком и не знал, что делать. В таких случаях всегда протягивают стакан воды, но в кабинете-мастерской не было ни стакана, ни воды, ни каких-либо заменителей - только стеллажи, уставленные предметами неизвестного назначения.
А она все плакала, слезы струйками протекали у нее между пальцами и капали на стол, она судорожно вздыхала, всхлипывала и все не открывала лица, а потом вдруг принялась говорить и говорила так, будто думала вслух - перебивая самое себя, без всякого порядка и без всякой цели…
…Он лупил ее - ого, еще как! Стоило ей поднять хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на три года, - она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот день, когда он увидел ее. Ей было пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал свою собственную считалку: «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали!» Десять раз, двадцать раз подряд. Ей стало смешно, и вот тогда он выдал ей впервые…
…Это было прекрасно - быть его вещью, потому что он любил ее. Он больше никого и никогда не любил. Только ее. Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. А он выходил на сцену, пел песни и декламировал - для нее. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту - для нее. И нырял на тридцать два метра - для нее. И писал стихи по ночам - тоже для нее. Он очень ценил ее, свою собственную вещь, и все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего об этом не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал его Учитель…
…У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг интерната был его очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны между муравейниками, он умел лечить оленей, и все они были его собственными, кроме старого лося по имени Рекс, которого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал его из леса…
…Дура, дура! Сначала все было так хорошо, а потом она подросла и вздумала освободиться. Она прямо объявила ему, что не желает больше быть его вещью. Он отлупил ее, но она была упряма, она стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил ее, жестоко и беспощадно, как лупил своих волков, пытавшихся вырваться у него из повиновения. Но она-то была не волк, она была упрямее всех его волков вместе взятых. И тогда он выхватил из-за пояса свой нож, который самолично выточил из кости, найденной в лесу, и с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Он стоял перед ней с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» И он еще не успел повалиться, как она поняла, что он был прав. Был прав всегда, с самого начала. Но она, дура, дура, дура, так и не захотела признать этого…
…А в последний его год, когда она вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то случилось. Наверное, они уже взяли его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись, идиоты. Проклятые разумные кретины. Он посмотрел сквозь нее и отвернулся. И больше уже не смотрел на нее. Она перестала существовать для него, как и все остальные. Он утратил свою вещь и примирился с потерей. А когда он снова вспомнил о ней, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть таинственным лесом, в котором он был владыкой, а она - самым ценным, что он имел. Они уже начали превращать его, он был уже почти Прогрессор, он уже был на полпути в другой мир, где предают и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным. Он писал ей, она не отвечала. Он звал ее, она не откликалась. А надо было ему не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, стало бы по-прежнему. Но он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг, и он перестал ей писать…
…Последнее его письмо, как всегда написанное от руки, - он признавал только письма от руки, никаких кристаллов, никаких магнитных записей, только от руки, - последнее его письмо пришло как раз оттуда, из-за Голубой Змеи. «Стояли звери около двери, - писал он, - в них стреляли, они умирали». И больше ничего не было в этом последнем его письме…
Она лихорадочно выговаривалась, всхлипывая и сморкаясь в смятые лабораторные салфетки, и вдруг я понял, и через секунду она сказала это сама: она виделась с ним вчера. Как раз в то самое время, когда я звонил ей и беседовал с конопатым Тойво, и когда я дозванивался до Ядвиги, и когда я разговаривал с Экселенцем, и когда я валялся дома, изучая отчет об операции «Мертвый мир», - все это время она была с ним, смотрела на него, слушала его, и что-то там у них происходило такое, из-за чего она сейчас плакалась в жилетку незнакомому человеку.
2 июня 78-го года
МАЙЯ ГЛУМОВА И ЖУРНАЛИСТ КАММЕРЕР
Она замолчала, словно опомнившись, и я тоже опомнился - только на несколько секунд раньше. Ведь я был на работе. Надо было работать. Долг. Чувство долга. Каждый обязан исполнять свой долг. Эти затхлые, шершавые слова. После того, что мне довелось услышать. Плюнуть на долг и сделать все возможное, чтобы вытащить эту несчастную женщину из трясины ее непонятного отчаяния. Может быть, это и есть мой настоящий долг?
Но я знал, что это не так. Это не так по многим причинам. Например, потому, что я не умею вытаскивать людей из трясины отчаяния. Просто не знаю, как это делается. Не знаю даже, с чего здесь начинают. И поэтому мне больше всего хотелось сейчас встать, извиниться и уйти. Но и этого я, конечно, не сделаю, потому что мне надо непременно узнать, где они встречались и где он сейчас…
Она вдруг снова спросила:
- Кто вы такой?
Она задала этот вопрос голосом надтреснутым и сухим, и глаза у нее уже были сухие и блестящие, совсем больные глаза.
Пока я не пришел, она сидела здесь одна, хотя вокруг было полным-полно ее коллег и даже, наверное, друзей, все равно она была одна, может быть, даже кто-то и подходил к ней и пытался заговорить с нею, но она все равно оставалась одна, потому что здесь никто ничего не знал и не мог знать о человеке, переполнившем ее душу этим страшным отчаянием, этим жгучим, обессиливающим разочарованием и всем прочим, что скопилось в ней за эту ночь, рвалось наружу и не находило выхода, и вот появился я и назвал имя Льва Абалкина - словно полоснул скальпелем по невыносимому нарыву. И тогда ее прорвало, и на какое-то время она ощутила огромное облегчение, сумела наконец выкричаться, выплакаться, освободиться от боли, разум ее освободился, и тогда я перестал быть целителем, а стал тем, кем и был на самом деле, - совершенно чужим, посторонним и случайным человеком. И сейчас ей становилось ясно, что на самом деле я не могу быть совсем уж случайным человеком, потому что таких случайностей не бывает. Не бывает так, чтобы расстаться с возлюбленным двадцать лет назад, двадцать лет ничего не знать о нем, двадцать лет не слышать его имени, а потом, двадцать лет спустя, снова встретиться с ним и провести с ним ночь, страшную и горькую, страшнее и горше любой разлуки, и чтобы наутро, впервые за двадцать лет, услыхать его имя от совершенно случайного, чужого, постороннего человека…