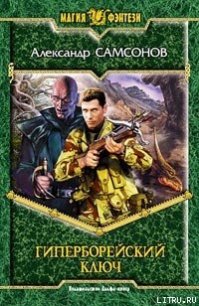У кромки океана - Робинсон Ким Стэнли (читать полную версию книги .TXT) 📗
Когда он вновь увидел Рамону – в раскопе на вскрытом перекрестке, – сердце его подпрыгнуло и он поспешно спрятал глаза. А она – помнит ли она?.. И вообще, было ли это на самом деле или нет?
Когда Кевин все-таки навел норовящий уползти в сторону взгляд на разрытую яму, первое, что он увидел, – улыбка Рамоны. Черные глаза ее светили Кевину двумя маяками бухты радости. Она помнила! И если то был лишь сон, выходит, снился он им обоим.
Кевин ощутил легкость совершенно необыкновенную; вонзая кирку во взломанный асфальт, он всякий раз ожидал, что от толчка взлетит в воздух, словно детский шарик.
Да, он действительно любил – без конца и без края. Впервые в жизни. Вот уж припозднился! Большинство нормальных людей впервые знакомятся с этой штукой, когда им нет и двадцати. Первая любовь – побочный продукт силы, брызжущей из молодого организма, силы прорастания; вот юное существо и влюбляется, не тратя лишнего времени на выбор и поиски, в кого-либо из школьных знакомых, причем вовсе не из-за его (ее) необычайных достоинств, а просто по причине непреодолимого стремления любить. Юношеская влюбленность – один из этапов созревания души. Но, хоть истинные качества любимого не играют большой роли, это не значит, что первая любовь – чувство преходящее или слабое. Наоборот, вследствие своей новизны, наверное, оно переживается с особой остротой. Большинство взрослых забывает о первой любви в водовороте событий, куда их окунула жизнь; а может быть, они просто не желают вспоминать моменты (или годы), когда их поведение – так они теперь это понимают – было сплошной глупостью, неловкостью и стыдом… Достаточно часто наша первая любовь угловата, направлена на совсем неподходящий объект или же как-то бедно и коряво выражена, и почти никогда не бывает награждена взаимностью; словом – лучше о ней не вспоминать. Но наберитесь храбрости обратиться взглядом в то время – и вы опять почувствуете всепобеждающую мощь своего первого чувства. Мало после него случается событий, заставляющих ощутить, что вы не просто существуете на свете, а живете – полно, ярко, ощущая счастье, испытывая боль.
Герою нашему, однако, не пришлось влюбиться в юности. Да и позже, если говорить честно, любовь его не посещала. Желание никогда не разливало огонь по жилам Кевина Клейборна; ни одна из встреч не вдохновила Кевина на сильное чувство. Кевин шел по жизни, беря понемногу из колодца плотской любви, но что-то он упускал. Таково было его смутное ощущение. Сердитые попытки Дорис сказать ему об этом несколько лет назад насторожили сердце Кевина – оказывается, кто-то чувствует то, что Кевин не в силах ощутить… Кевин тогда очень смутился душой – ведь он тоже любил. А что, разве нет? Он многих любил: Дорис, друзей, семью, соседей, ребят из софтбольной команды. Но это, похоже, совсем не та любовь.
Так или иначе, но связь Кевина с Дорис прекратилась, почти не успев начаться. И вот теперь, когда Кевин впервые испытал романтическую любовь, он был изрядным переростком. Возраст за три десятка, годы работы – и дома, и вдали от него, тысячи знакомств. Чувство его не являлось запоздало сгустившимся до реальной плотности детским желанием любить кого-нибудь. Не было оно и просто порывом души, хотя, без сомнения, движения в Кевине, в самом его духе, происходили. Душа человека всегда изменяется, пусть даже и с примороженной медлительностью.
Рамона воплощала в себе самые прекрасные женские черты, каковые когда-то и где-то впечатались в душу Кевина. Рамона Санчес, его друг. И когда неожиданно она стала свободна и обратила на него свое внимание – вернее, обратила к нему свои чувства, – вот тут душа Кевина показала себя, как тот аляскинский ледник, что полз себе, прибавляя по одному метру за столетие, а в один прекрасный год прыгнул сразу на сотню, перекрыв своим языком бухту.
Удивительная штука влюбленность. Любовь изменила все. Когда Кевин работал, любовь давала ему дополнительное, чувственное, что ли, удовлетворение от работы; он спешил трудиться. Когда Кевин был дома, любовь давала ему качества хорошего соседа и друга. Люди отдыхали душой рядом с ним; проводить с Кевином время было просто приятно. С ним можно было поговорить. Правда, это и раньше не представляло больших трудностей, но теперь Кевин гораздо охотнее отдавался беседе.
В бассейне он плавал теперь, как чемпион, летя по воде, словно по воздуху. Кевин любил выкладываться. Да и в мяч он стал играть лучше прежнего. Это была полоса побед, и ширилась она как будто без усилий с его стороны. Просто все происходило само собой. Наконец очередь дошла и до софтбола. Скрытный удар, отличное чувство игры, мощный напор на линии – все эти таланты с неизбежностью постигли нашего влюбленного. Теперь он делал сорок три из сорока трех и на площадке его величали не иначе, как «мистер Тысячник» или «реактивная бита». Кевин смеялся, он не относился с излишней серьезностью к своему победному шествию, и от этого его успех еще возрастал.
А когда рядом была Рамона… В то утро на раскопанном перекрестке, где они отправляли общественные обязанности, Кевин понял, что значит для любящего сердца, когда его вторая половинка рядом. Района была здесь, стоило лишь оглянуться; он мог посмотреть на нее, когда захочет, – вот она, грациозная, сильная, даже не представляющая себе, до чего прекрасна. А когда она смотрела на него, он знал, что ее глаза говорят: «Я все помню. Я твоя!»
Бог мой! Это была любовь.
Для Дорис дни после той вечеринки были отмечены немыслимо затянувшимся тяжким похмельем. Она чувствовала себя тошнотно, плохо понимала, где находится и что вокруг происходит, была крайне раздражительна. Однажды вечером, когда Хэнк поднялся к ужину, она зло произнесла:
– Черт возьми, Хэнк, тебе всегда удается влить в меня раз в десять больше проклятой текилы, чем я могу выпить. Зачем ты так поступаешь?
– Ну… знаешь, – ответил Хэнк, моргая с застенчивостью идиота, – я всегда стараюсь жить по правилу древних греков, гласящему: «Умеренность во всем».
– Это у тебя такая умеренность? – воскликнула Дорис, чувствуя, как из глубины желудка поднимается тошнота.
Все сидящие за столом просто взвыли от восторга, услышав новую теорию Хэнка.
– Умеренность во всем! – смеялся Рафаэль. – Молодчина, Хэнк, это ты в самую точку! Надежда подала голос:
– Однажды я была на Родосе – там, где родилась эта фраза. Автор мысли – Клеобул, а высказал ее он в 650 году до нашей эры. В путеводителе, который я купила, был дан такой перевод: «Мера есть во всем хорошем».
– Тоже колечко, да не то же, – усмехнулся Андрее.
– Что за чушь ты болтаешь, Хэнк? – продолжала сердиться Дорис. – Неужели воздержанность во всем подразумевает уничтожение двадцати пяти бутылей ужасающей текилы?
– Ну, понимаешь, когда говорят – умеренность во всех вещах, то среди этих вещей непременно подразумевают и саму умеренность. Ты проникаешь в мою мысль? Чтобы было понятнее, скажу так: иногда надо немного доходить до сумасшествия.
Затем явился Том; после ужина он и Дорис приступили к разбору записей, которые Дорис утащила со своей работы.
Том покрутил головой:
– Тут почти все, похоже, зашифровано. Конечно, может быть, они воспользовались простым шифром. Но если это засекречено путем дополнительного кодирования, тогда черта с два мы чего добьемся. – Дорис сердито нахмурилась. – Это во-первых, – продолжал Том. – А во-вторых, даже если мы расколем код и все будет расшифровано, для меня эти записи так и останутся загадкой. Я не бухгалтер-аналитик. И до пенсии не был им.
– Я подумала, что, может быть, вы усмотрите какие-то следы, зацепки… – промолвила Дорис. Запал ее понемногу испарялся.
– Ну, допустим, смогу. Но, понимаешь, твой приятель Джон, похоже, не был допущен к секретам фирмы, тем более если она замешана в сомнительных делишках. Видно у него не слишком высокая форма допуска.