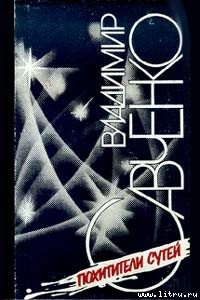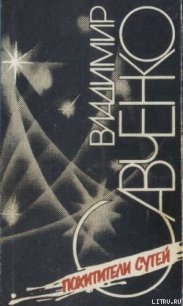Должность во Вселенной - Савченко Владимир Иванович (первая книга TXT) 📗
Звезды-штрихи высасывают туманное свечение окрест. Теперь весь быстро вращающийся вихрь состоит из них. Ядро Галактики набухает голубым вибрирующим светом. Рукава загибаются около него все более полого, касательно — и вот сомкнулись в сверкающий эллипс. Звездные штрихи меняют оттенки и яркость — эти переливы распространяются по эллиптической Галактике согласованной дрожью. Видно: она целое, главный образ Вселенной.
Что-то ослабело, спало в пространстве — галактический эллипс опять раскручивается в вихрь. Рукава его расходятся, раскидывают во вращении своем звездные ошметья — в них по краям тела Галактики звездные пунктиры накаляются, вспыхивают сверхновыми, а те расплываются в туманные блики. Они сливаются в волокна и струи теряющей выразительные формы субстанции. Процесс захватывает центральные области — все прощально вспыхивает, тает, растворяется во тьме.
Галактика жила восемнадцать секунд. Звезды в ней — от четырех до четырнадцати секунд.
А в двух соседних с ней вихрях звезды так и не возникли: эти вселенские образы прожили свой многомиллиарднолетний век круговертями сверкающего тумана.
Вверху воцарилась Ночь. Кабина возвращалась вниз.
— Все, как у нас, — задумчиво молвил Любарский, отстегиваясь от кресла-люльки.
Пец вопросительно глянул на него.
— Я о тех двух соседних, — пояснил доцент. — В обычном небе из многих миллионов наблюдаемых галактических туманностей только десятка два на снимках расщепляются на звезды. Мы объясняем это так, что те, в которых звезд не различаем, слишком далеки. Но после увиденного здесь я склонен подозревать, что и в тех Галактиках — если не во всех, то во многих — звезд нет. Мы полагаем звезды главными образами Вселенной потому, что считаем главным проявлением материи вещество. Но теперь мы видим, что это не так.
— Крамольный вы, однако, человек, Бармалеич! — молвил Корнев.
— Здесь станешь…
Кабина, колыхая аэростатами, ползла вниз. Вселенная в ядре Шара съеживалась, тускнела. Говорить не хотелось. Под стать увиденному были бы слова и фразы, доступные гениям, их испепеляющие сердца глаголы. Откуда взять такие им — обыкновенным, поистрепавшим речь в быту, на лекциях и совещаниях? Но и отмалчиваться не стоило: заниматься-то этим делом им, уж какие есть.
— Смешение и разделение, — задумчиво сказал Пец, — разделение и смешение. Два акта в вечной драме материи-действия. Разделение — выделение образов из однородного… то есть для нас пустого — пространства. Выделившееся усиливает выразительность свою: четкость границ, яркость, плотность… Так до максимума, за которым начинается спад, смешение, распад, растворение в однородной среде. Возвращение в небытие — если нашу жизнь считать бытием… У этих процессов много подробностей, маскирующих суть, но она всюду одна: разделение — смешение. Все, что имеет начало, имеет и конец. Одно без другого не бывает.
Снова замолчали. Корнев хмыкнул, подоил нос:
— Бармалеич, прокамлайте теперь вы что-нибудь.
— Если позволите, Саша, я продолжу вместо него, — мягко и в то же время как-то величественно произнес директор. — Варфоломей Дормидонтович уже «прокамлал»: сказал слова, которые, хоть их и было всего три, перевешивают все, что мы с вами сказали и скажем: «Поток и турбуленция в нем». Вы, безусловно, герой дня сегодня, Варфоломей Дормидонтович, поздравляю вас. Это многообещающая идея, и даю вам задание исследовать ее. Там есть четкий критерий Рейнольдса для начала бурления — выжмите из него все. Доклад через пять дней. Но пока вы не погрузились в гидродинамику, подкину вам еще информацию. В стихах. Вот первая:
Имеется в виду День Брамы и Ночь Брамы, стадии в цикле миропроявления. Вторая:
Обе цитаты из «Бхагаватгиты», «Божественной песни» в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Ему более трех тысяч лет. «Существа» — в смысле «все сущее».
— Вы хотите сказать, — оживился астрофизик, — что этими словами описано миропроявление как вскипание турбуленции в потоке материи-времени?
— …И даже в соответствии с критерием Рейнольдса, Варфоломей Дормидонтович! Ведь и по нему турбуленция возникает в потоках не сразу, а когда они наберут напор и скорость. В какой-то из предшествующих цивилизаций это понимали.
— Занятно.
Корнев только переводил глаза с одного на другого. Наконец не выдержал:
— Ну, наговорили!.. Нет, граждане, как хотите, но я с вами сюда больше подниматься не буду. Это ж потом не уснешь. И вещества — то есть тела, то есть мы с вами! — ничего во вселенских процессах не значат, и вообще существует только мировое пространство да смешение-разделение в виде турбуленции… Ну и ну!
Варфоломей Дормидонтович поглядел на главного инженера — кажется, первый и последний раз в жизни — с сожалением и превосходством:
— А слабенек, оказывается, наш главный на философскую мысль, жидковат. Чем вы, собственно, огорчены и недовольны?
— Послушайте! — В глазах Александра Ивановича действительно были возмущение и растерянность. — Но если все так страшно просто… ведь это же и просто страшно!
Для зевак (коих всегда много толпилось около зоны) многочасовое путешествие троих исследователей к ядру выглядело так: колечко голубовато-белых баллонов с рафинадно блестящей пирамидкой внутри скакнуло к темной сердцевине Шара, ринулось вниз, повисло на миг между тьмой и башней, опять рванулось вверх — и почти сразу шлепнулось на «наконечник», на крышу башни. «Ух, черт! — подумал не один. — Авария! Никто, поди, и не уцелел…»
Для Васюка-Басистова и Германа Ивановича, дежуривших на крыше, впечатление было не столь сильным, хотя первый откат кабины и зависание ее посредине их обеспокоили. Тем приятней им было увидеть выпрыгнувшего из пирамидки, едва она коснулась крыши, Корнева и затем приставить лесенку для директора и Любарского.
— Ну, — сказал главный инженер, беря сигарету из протянутой Толюней пачки и прикуривая ее от протянутой механиком зажигалки, — вот ты, Ястреб точной механики, технический Кондор, Орел смекалки, работающий от идеи… — Тот от комплиментов скалил стальные зубы, щурил калмыковатые глаза. — Давай как обычно: не надо чертежей, скажите, что эта хреновина должна делать. Сообщаю: она должна приближаться к ядру и входить в него. Желательно, не отрываясь от башни.
— Так вот же кабина и аэростаты, Александр Ива… — указал на сооружение механик. — Вместе строили. Вы же только оттуда, что вам еще?
— Мы не оттуда, мы с высоты два километра, на какой еще держат баллоны. А далее — пустота, космос, звезды, Галактики. Вот к ним бы и надо!
— Какие звезды, ну что вы такое говорите! — Герман Иванович обиделся, не понимая, чего это главный вздумал над ними шутить. — Светлячки, мерцания — разве ж звезды такие! Что я, звезд не видел!
— Ну вот, не верит… — Александр Иванович повернулся к Васюку. — А ты, Толюнчик, веришь?
— Верю, — флегматично отозвался тот.
— Так ну?…
— Идею надо.
Корнев махнул рукой и направился к люку, размышляя, что вот есть в его распоряжении и разнообразнейшая техника, и средства, и умелые работники, и неограниченное время, которое тоже деньги… а без идеи все это выглядит так, что лучше бы ничего не было! Он испытывал сейчас что-то подобное мукам неразделенной любви.
И Валерьян Вениаминович спустился вниз, в прозу. В приемной Нина Николаевна вручила ему стопку листов с типографским текстом:
— Верстка вашей статьи для сборника, просят скорее вычитать и вернуть.