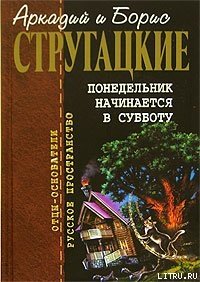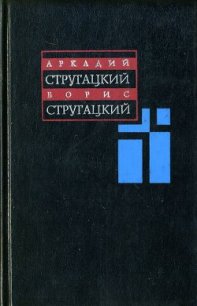Стажеры. Второе нашествие марсиан - Стругацкие Аркадий и Борис (читать книги бесплатно .txt) 📗
— Ну, старина, ты сегодня в отличной форме». Мы стали хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, Пан, сразу видно, плохо ты нынче спал, старина. Заездил тебя Минотавр, Пан, плохо твое дело. Пора, пора тебе на пенсию, Пан, дружище!» — «Полицейский, а сам сеет панику», — обиженно сказал Миртил, единственный, кто принял Пандареевы слова всерьез. «На то он и Пан, чтобы сеять панику», — сострил Димант. И Полифем тоже сострил удачно, хотя и совершенно неприлично. Пока мы так развлекались, Пандарей стоял столбом, распухал на глазах и только ворочал головой, совсем как бык, которого одолевают матадоры. В конце концов он застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-р-разойдись! Именем закона». Миртил пошел к себе на бензоколонку, а остальные наши отправились в трактир.
В трактире мы сразу заказали пива. Вот удовольствие, которого я был лишен, пока не уволился на пенсию! В таком маленьком городке, как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра до поздней ночи буквально кишит этими родителями, и если ты позволяешь себе невинную кружку пива, то на следующий день непременно имеешь унизительный разговор с директором. А я люблю трактир! Люблю посидеть в доброй мужской компании, ведя неторопливые серьезные беседы на произвольные темы, рассеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной, люблю рассказать и выслушать соленый анекдотец, сыграть в четыре короля — по маленькой, но с достоинством и при выигрыше заказать всем по кружке. Ну ладно.
Япет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Полифем заявил, что если бы это была война, то уже началась бы мобилизация, а желчный Парал возразил, что, если б это была война, мы бы уже ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удовольствием завел бы разговор о пенсиях, но где уж мне… Полифем положил костыль поперек стола и спросил, что, собственно, Парал понимает в войнах. «Знаешь ты, например, что такое базука? — грозно спросил он. — Знаешь ты, что такое сидеть в окопе, на тебя прут танки и ты еще не заметил, что навалил полные штаны?». Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ничего не знает и знать не хочет, а вот про атомную войну мы все знаем одинаково. «Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее кладбище», — сказал он. «Шпаком ты был, шпаком и умрешь, — сказал одноногий Полифем. — Атомная война — это война нервов, понял? Они нас, а мы их, и кто первый навалит в штаны, тот и проиграл». Парал только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. «Базуки! — орал он. — Тарзоны! Р-раз — и полные штаны! Верно, Аполлон?» Накричавшись вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую атаку. Терпеть не могу этих воспоминаний. Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, не помню. Да и не люблю к этому возвращаться. А Полифем как был казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. А может быть, все дело в том, что не довелось ему попасть в «котел», как мне. Или тут в характере дело?
Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Япета кормят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клецками густо отдавал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у Япета третий день болят зубы, да так невыносимо, что он ничего толком не может попробовать. «А помнишь, Феб, как я выбил тебе зуб?» — грустно спросил он. Еще бы я не помнил! Это было в седьмом классе, мы вместе ухаживали за Ифигенией и дрались каждый день. Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драться! Ифигения, оказывается, теперь замужем за каким-то инженером на юге, у нее уже внуки и грудная жаба.
Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Лаомедонта стояла эта его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскуривал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается. И теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. Ахиллес восседал за кассой и рассматривал свой «Космос». С тех пор как он раздобыл этот синий треугольник с серебряной надпечаткой, он взял себе за правило доставать альбом как раз к моему приходу, словно бы случайно. Я его вижу насквозь и потому виду не подаю. Хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кровью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я ему так и сказал. «Да, — сказал я, — ничего не скажешь, Ахилл, отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой». Он весь перекосился и проворчал, что зелен, мол, виноград. «Что поделаешь, — отвечал я ему спокойно. — Наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклейкой? У некоторых, конечно, — сказал я, — такие широкие взгляды, что они берут и гашеные и с наклейками, но это не по мне, несерьезно. Я беру их разве что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, которому что с наклейкой, что без — все едино». Я тебя отучу тыкать мне в нос серебряную надпечатку!
А в общем мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, будто вчерашний фейерверк — это полярное сияние редкого вида, случайно совпавшее с особым видом землетрясения, а я ему втолковывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахиллесом невозможно. Ведь видно же, что человек сам в свои слова не верит, а спорит, упорствует. Сидит как монгольский истукан, смотрит в окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разбираюсь в феноменах натуры. Можно подумать, что они там в своем фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьезных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он никогда не спорит по существу. Истина его не интересует, ему одно важно: посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей планеты. Совершенно точными, известными каждому образованному человеку аргументами я доказываю ему, что земля есть, грубо говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент по очереди, а когда мы доходим до формы земной тени во время лунных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде: «Тень, тень… Наводишь тут тень на ясный день. Бородавку сначала под носом выведи да волосы на своей плеши отрасти, а тогда уж и спорь». Или, скажем, Парал. Поспорил я с ним как-то о способах излечения алкоголизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике тогдашнего президента, а от нее — к проблеме панспермии. И что самое удивительное — до панспермии и до внешней политики мне тогда не было и сейчас нет никакого дела, а алкоголизмом мучительно для всех окружающих страдал двоюродный племянник Гермионы. Сейчас-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была сплошным кошмаром. Да, алкоголизм есть бич народов.
Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную бутылочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет неважно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватало, если бы не мадам Персефона. Вот и сегодня опять пришли от нее. «Могу предложить антигест», — говорит Ахиллес деликатным шепотом. «Нет, — отвечает посыльная, — просили чего-нибудь повернее, пожалуйста». Повернее, видите ли, ей. Прибегал еще поваренок от Япета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побеседовали всласть. Я обменял розовый «Монумент» на его серию «Красный Крест». Собственно, «Красный Крест» мне не нужен, но Харон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление: «Возьму „Красный Крест“, предлагаю любую перевернутую надпечатку из стандарта». Надо признаться, что, как это ни странно, Харон — единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихикает. Вообще, если подумать, он совсем не плохой человек, и Артемида поступает не только аморально, но и неблагородно. А каков этот Никострат!
Возвращаюсь домой в девять вечера и вижу, что они опять сидят у меня в саду, в тени и, правда, не целуются, но надо же все-таки совесть иметь. Я вышел в сад, взял Артемиду за руку и говорю этому хлыщу: «До свидания, господин Никострат, спокойной ночи». Артемида вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит. А этот распутник, весьма неуклюже пытаясь сгладить неловкость, затевает со мной разговор о муниципальных рекомендациях, которые следует прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палкой надо гнать из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая. И неуверенность. Вот уж действительно комплекс неполноценности. И тут он вдруг скверно осклабляется и говорит: «А как поживает очаровательная госпожа Гермиона? Вы, господин Аполлон, не промах. От такой экономки я бы тоже не отказался». У меня сердце упало, и я совсем уже онемел. А он, не дождавшись ответа — да и зачем ему мой ответ? — удалился, хохоча на всю улицу, и я остался один в темном саду.