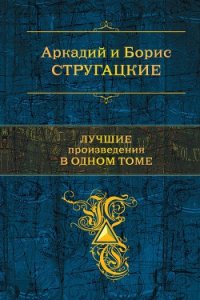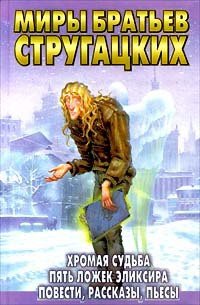Туча - Стругацкие Аркадий и Борис (книги онлайн полные версии .txt) 📗
— Ни черта мы не понимаем, — злобно прерывает Брун. — Невинное аэрозольное образование! Анализы не дают никаких оснований для паники! Три десантные группы были сброшены туда, и ни одна не вернулась! Три! — Он выставляет три пальца. — И ни один профессор пока не объяснил — почему.
— Да, — соглашается Нурланн. — В активной зоне — там, вероятно, происходят какие-то грандиозные процессы. Честно говоря, я не могу сообразить, почему она все время расширяется…
— Погоди, — говорит ему Хансен. — Я сейчас все объясню.
На самом деле было так.
В доходном доме рядом с химическим заводом жил многосемейный коллежский секретарь Нурланн. Обстоятельства его: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет. Днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма. От ядовитого смрада вокруг умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют комнатные мухи. Коллежский секретарь ведет многолетнюю упорную кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные жалобы во все инстанции, разгромные фельетоны в газетах, жалкие попытки организовать пикеты у проходной. Завод стоит, как бастион. На площади перед заводом замертво падают отравленные постовые. Дохнут домашние животные. Целые семьи покидают квартиры и уходят бродяжничать. В газетах появляется некролог по случаю преждевременной кончины директора завода. У нашего коллежского секретаря умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой.
Однажды вечером, спустившись зачем-то в подвал, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопротивления миномет и двадцать два ящика мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак. Завод лежит перед ним как на ладони. В свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. «Я тебя убью», — шепчет коллежский секретарь и открывает огонь. В этот день он не идет на службу. На следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках перед слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабел, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: «Я убью тебя…» Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончаются — осталось три штуки. Он высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками. Выбитые окна зияют. На боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины. Двор перерыт сложной системой траншей. По траншеям короткими перебежками двигаются рабочие. Быстрее прежнего снуют вагонетки, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна!». В полном отчаянии коллежский секретарь выпустил последние три мины, и вот тут-то все и началось.
— Что именно? — спрашивает Нурланн.
— Лопнуло, — поясняет Хансен. — Лопнуло у них терпение. Сколько можно?
Он пьян, и Нурланн говорит снисходительно:
— Очень элегантная гипотеза. Только там, где на самом деле лопнуло, не было никакого химического завода, а была там наша муниципальная площадь, экологически вполне чистая.
— Да, муниципальная площадь, — соглашается Хансен. — Но плохо вы знаете историю родного города. На этой самой площади: тринадцатый век — восстание «серых», за день отрубили восемь сотен голов, в том числе сорок четыре детских, кровь забила водостоки и разлилась по всему городу; пятнадцатый век — инквизиция, разом сожгли полтораста семей еретиков, в том числе триста двенадцать детей, небо было черное, неделю падал на город жирный пепел; двадцатый век — оккупация, расстрел тысячи заложников, в том числе двадцати семи детей, трупы лежали на брусчатке одиннадцать дней… Двадцатый век! А бунт сытых в шестьдесят восьмом? Две тысячи сопляков и соплячек под брандспойтами, давление пятьдесят атмосфер, сто двадцать четыре изувеченных, двенадцать гробов… Сколько же можно такое выдержать? Вот и лопнуло.
— Да что лопнуло-то? — с раздражением спрашивает Брун. — Опять ты надрался…
— Брун, — укоризненно-весело произносит Нурланн, — ты не способен этого понять. Классическая коллизия: поэт и санинспектор.
— Это все дожди, — заявляет Хансен. — Мы дышим водой. Шесть месяцев этот город дышит водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. А дождь все будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, он смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать, и когда земля напитается, тогда взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной…
— О боже! — восклицает Брун. — О чем ты говоришь?
— Я говорю о будущем, — с достоинством пьяного отвечает Хансен.
— О будущем… — Брун кривит губы. — Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят, его делают! Вот рюмка коньяка. Она полная. Я сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. У нас нет времени рассуждать. Надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии со своими рефлексами и эмоциями. Будущее — это просто тщательно обезвреженное настоящее.
— Точка зрения санитарного инспектора, — бросает Нурланн. И тут по неподвижному лицу Хансена полились слезы.
— Они очень молоды, — произносит он чистым ясным голосом ни с того ни с сего. — У них впереди все, а у меня впереди — только они. Кто спорит, человек овладеет Вселенной, но только это будет совсем другой человек… И, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя. Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и не так, как нам хотелось бы…
На другое утро Нурланн вылетает на вертолете обозреть Тучу сверху.
То, что он видит, потрясает его. Затопленный город. Над поверхностью воды выступают верхушки только самых высоких зданий. Торчит башня ратуши со старинными часами, плоская крыша городского банка с размеченной вертолетной площадкой, крест церкви, в которой он когда-то венчался…
— Что это такое? — кричит он пилоту, тыча пальцем в иллюминатор.
— Туча, — отвечает пилот меланхолично.
— Откуда вода? Вы видите воду?
— Нет. Вижу Тучу… молнии… воронка какая-то крутится над серединой… А вы воду видите? Не беспокойтесь, здесь всегда так. Некоторые пустыню видят, верблюдов… Миражи. Только у каждого свой.
Поперек проспекта Реформации, который все почему-то называют теперь Дорогой чистых душ, высится массивная триумфальная арка, увенчанная гербом города: ослиноголовый человек пронзает трезубцем дракона с тремя человеческими головами.
Вдали за пеленой дождя едва угадывается черная стена Тучи. Все пространство между аркой и Тучей забито людьми, толпящимися вокруг дюжины огромных автобусов: идет спешная эвакуация будущего сектора обстрела. Загруженные автобусы один за другим с ревом уходят под арку и дальше вверх по проспекту.
Чуть в стороне от арки стоят зачехленные ракетно-пушечные установки «корсар», возле них, собравшись кучками, курят в кулак нахохленные экипажи в плащ-накидках.
Рядом с аркой группа начальства: Нурланн, его ассистент, двое офицеров в пятнистых комбинезонах. Нурланн держит над собой зонт, остальные мокнут.
Нурланн говорит ассистенту, указывая на верхушку арки:
— Вот удобная площадка, потрудитесь расставить там все приборы. Полагаю, что места хватит.
— Там будет мой наблюдательный пункт, — произносит один из офицеров, командир дивизиона, человек с недовольным лицом, выражающим откровенную неприязнь к штатскому.
Нурланн бросает на него взгляд и продолжает, обращаясь к ассистенту:
— Позаботьтесь о генераторе. Городская сеть ненадежна.
— К сожалению, ничего не выйдет, профессор, — отзывается ассистент, злорадно поглядывая на недовольного офицера. — Нам предлагается пользоваться генератором дивизиона.