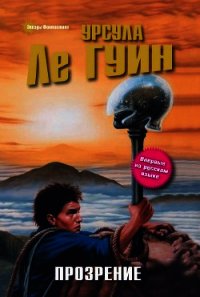Левая рука тьмы - Ле Гуин Урсула Кребер (бесплатные серии книг txt) 📗
В такой блаженный момент, засыпая, я вне всяких сомнений понял, что является подлинным центром моей жизни — время, которое прошло и потеряно, и все же оно продолжает существовать, длится каждую минуту — это средоточие тепла.
Я не пытаюсь утверждать, что был счастлив в течение этих недель, когда мы тащили сани по льду, обжигаемые дыханием смертельно холодной зимы. Я был голоден, измотан, часто меня охватывало беспокойство, и чем дольше мы шли, тем хуже мне становилось. Нет, конечно же, я не испытывал счастья. Оно приходит по какой-то причине, и только эта причина объясняет его. И то, что приходило ко мне, было тем, что невозможно заработать, невозможно удержать и часто порой его даже невозможно узнать — я имею в виду радость.
Обычно я просыпался первым, еще до рассвета. Обмен веществ у меня несколько превосходил геттенианские нормы, так же, как мой рост и вес; Эстравен хотел компенсировать это различие подбором пищи, которым он занимался со скрупулезностью домашней хозяйки или ученого; и с самого начала я получал на пару унций пищи больше, чем он. Протесты по поводу такого неравенства затихли сами собой, потому что справедливость его была очевидна. Я был голоден, постоянно голоден, и день ото дня я чувствовал голод все острее. Я проснулся оттого, что был голоден.
Так как было еще темно, я включил освещение, идущее от печки, и, взяв котелок со льдом, который накануне мы внесли в палатку, чтобы он успел растаять, поставил его закипать на печку. Эстравен в это время был занят своей обычной молчаливой борьбой со сном, словно бы он боролся с ангелом. Всхлипнув, он сел, туманным взглядом посмотрел на меня, покачал головой и окончательно проснулся. К тому времени, когда мы были одеты и обуты, и мешки скатаны, завтрак был уже готов: каша из вскипевшего горячего орша и один кубик гичи-мичи, растворенный в горячей воде и превратившийся в небольшой тестообразный комок. Присев, мы жевали молча и медленно, торжественно подбирая и пережевывая каждую крошку. Пока мы ели, печь остыла. Мы упаковали ее вместе с кастрюлями и сковородками, накинули наши плащи с капюшонами, натянули перчатки и варежки и выползли на свежий воздух. Леденящая стылость его была почти невыносима. Каждое утро я убеждал себя, что такой холод на самом деле может быть.
Порой шел снег; порой легкие лучи рассвета становились синими и золотыми, заливая ледяные пространства перед нами, но куда чаще нас окружала серая стылость.
Термометр по ночам был в палатке с нами, и когда он оказывался на воздухе, было интересно наблюдать, как указатель стремительно отклонялся вправо (движение на геттенианском циферблате идет против часовой стрелки) так быстро, что было невозможно уследить за его движением — он падал на двадцать, пятьдесят, восемьдесят градусов, пока не останавливался где-то между нулем и 60 градусами.
Один из нас снимал палатку и складывал ее, пока другой укладывал на сани печку, мешки и так далее; поверх всего крепилась палатка, мы надевали лыжи, впрягались в постромки и были готовы в путь. В нашем снаряжении было минимальное количество металла, но на постромках были пряжки из алюминиевого сплава, слишком изящные, чтобы их можно было застегивать в перчатках, и на морозе они обжигали, словно были докрасна раскалены. Я должен был очень внимательно относиться к своим пальцам, когда температура падала ниже минус двадцати, особенно, если дул ветер, потому что отморожение подстерегало меня каждую минуту. Ноги у меня никогда не мерзли — и это было очень важно для зимнего путешествия, когда стоило на час забыть о них, и ты на неделю мог выйти из строя или вообще остаться калекой на всю жизнь. Учитывая мои размеры, Эстравен припас мне несколько большую обувь, но пара шерстяных носков вполне устраняла неудобство. Мы как можно скорее вставали на лыжи, накидывали упряжь, раскачивали и отрывали ото льда примерзшие за ночь полозья и двигались в путь.
Если ночью шел густой снег, то утром нам приходилось терять время, откапывая из-под него палатку и сани. Свежий снег не представлял больших препятствий для движения, хотя нам приходилось прокладывать глубокие борозды, которые были единственным следом присутствия живого человека на сотни миль.
По компасу мы шли на восток. Ветер обычно дул по леднику с севера на юг. День за днем он задувал на нас слева. Капюшон не спасал от такого направления ветра, и мне приходилось надевать на лицо маску, чтобы уберечь нос и левую щеку. И все же как-то я отморозил левый глаз и уже решил, что не смогу смотреть им, даже когда Эстравен, пустив в ход дыхание и язык, оттаял его, какое-то время я еще им ничего не видел, так как отморозил не только веки. Когда в глаза било солнце, оба мы надевали щелеобразные геттенианские очки для защиты от сияния, и никого из нас не поразила снежная слепота. Возможностей для этого было немного. Лед, как объяснял Эстравен, представляет собой зону высокого давления вокруг своего центра, где тысячи квадратных миль белизны отражают солнечный свет. Мы были не в ней, а в лучшем случае на краю ее, между нею и зоной постоянных жестоких штормов, которые постоянно обрушиваются на земли, прилежащие к леднику. Ветер, дующий с севера, обеспечивал ясную погоду, но когда он поворачивал на северо-запад или северо-восток, то начинал идти снег или же вздымались облака сухого снега с земли, которые били в лицо, как песок при самумах или же застилали все видимое пространство сплошной белизной, когда нельзя было различить ни поверхности льда, ни неба, ни солнца, ни тени, да и лед, и сам снег исчезали под нашими ногами.
К полудню мы останавливались, вырезали несколько блоков льда и возводили стенку, чтобы укрыться от сильного ветра. Мы грели воду, чтобы развести кубик гичи-мичи, и пили кипяток, иногда с кусочком растворенного в нем сахара; снова впрягались в постромки и продолжали путь.
На ходу или за завтраком говорили мы мало, потому что с трудом шевелили губами, а когда кто-то открывал рот, холод проникал внутрь, обжигая зубы, горло и легкие; не оставалось ничего другого, как держать рот закрытым и дышать через нос, по крайней мере, когда воздух достигал температуры сорок или пятьдесят градусов. Когда становилось еще холоднее, то дыхание вообще становилось затруднительным процессом, потому что оно образовывало наросты льда около рта, и если вы не обращали внимания, ноздри оказывались закупоренными льдом, а когда, задыхаясь, вы начинали хватать воздух ртом, его резало как ножом.
При определенных условиях дыхание мгновенно замерзало, издавая легкий треск, словно где-то вдали трещали дрова в костре; каждый вдох и выдох поднимали маленькую снежную бурю.
Мы шли вперед, таща сани, пока не начинали падать от усталости или же не начинало темнеть. Тогда мы останавливались, растягивали палатку, привязывали ее к колышкам, если существовала опасность, что ночью разразится сильный ветер, и располагались на ночевку. В обычный день мы двигались от одиннадцати до двенадцати часов и делали от двенадцати до восемнадцати миль.
Мы не могли похвастаться большими успехами, и условия становились все хуже. Плотность снега редко отвечала тяжести и саней и лыжников. По новому и легкому снегу сани разрезали его столь же легко, как и скользили по нему; когда же он несколько твердел, сани зарывались в него, а нас он выдерживал, что означало необходимость постоянно возвращаться, вытаскивая сани. Окончательно твердея, снег часто превращался в подобие вздыбленного моря, заполненного навивами (саструги), которые в некоторых местах достигали высоты до четырех футов. И каждый раз нам приходилось втаскивать сани наверх, переваливая их через острые края или по фантастически хрупким карнизам, затем спускать их вниз и снова втаскивать наверх, ибо сугробы никогда не располагались параллельно нашему движению. Я представлял себе, что Плато Льда Гобрина должно было представлять собой гладкую простыню, как поверхность замерзшего пруда, но перед нами лежали сотни миль вздыбленного штормами ледяного моря.
Обычно к вечеру мы разбивали палатку, укладывали вещи, сбивали снег с одежды и так далее. Порой мне казалось, что в этом нет смысла. Было так поздно, так холодно, что куда проще было лечь в одежде под укрытием саней и не мучиться с палаткой. Я помню, как отчетливо я понимал это некоторыми вечерами и как меня раздражала жестокая методическая настойчивость моего спутника, требовавшего, чтобы мы все делали тщательно и верно. В такие времена я его ненавидел так, что подсознательно желал его смерти. Я ненавидел его грубую, тупую, упрямую требовательность, с которой он обращался со мной во имя жизни.