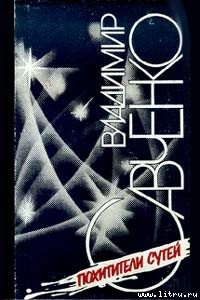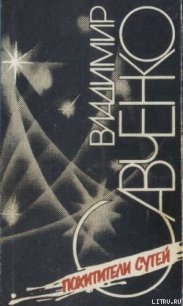Должность во Вселенной - Савченко Владимир Иванович (первая книга TXT) 📗
— Еще не исчерпали и половины возможного: на электродах «Время» по четыреста пятьдесят киловольт на каскад, на пространственных — по пятьсот киловольт. Двинула дальше?
— Давайте, — поддерживал Любарский.
— Только помалу, с паузами после каждой сотни киловольт, — дополнил директор. — И… не более восьмисот на каскад.
Корнев тронул рукоятки, стрелки киловольтметров поползли вправо. Электрические поля наращивали и напрягали незримый «пространственный шприц», который теперь прокалывал почти весь барьер неоднородности. Вне «шприца» физические расстояния от них до башни соизмерялись с галактическими. Кабина в верхнем кончике электрической «иглы» воткнулась в MB, в Галактику.
Кабина входила в Галактику — и та теряла образ цельного вихря, растекалась во все стороны необозримо. Унеслось влево ее звездное ядро, отмахнул за купол один рукав. Вошли во второй — и развернулось вверху звездное небо, на первый взгляд чем-то даже подобное видимому над Землей. Как и в обычном небе, здесь тьму разделяла наклоненная и размытая полоса из множества звездных точек: проекция плоскости вихря, здешний млечный путь. Яркие близкие звезды образовали характерные фигуры, хотелось даже поискать среди них Орион, Плеяды, Медведиц, Кассиопею — или, не обнаружив, дать название здешним созвездиям: вот Паук, вон Ожерелье, Ромб, Кленовый Лист, Профиль… Сходство было и в том, что звезды мерцали, меняли цвета от красного на зеленый, от голубого на желтый — будто во влажной послегрозовой атмосфере.
Но так представлялось лишь на первый взгляд. Уже ори втором становилось заметно собственное движение звезд, скоплений их и целых участков Галактики. Разрушались иллюзорные «созвездия»: выворачивался Ромб, рвалось на части Ожерелье, искажался Профиль; возникали новые характерные группы. Было в этих движениях миров что-то от половодья, от танца закручивающихся друг около друга водоворотиков на стремительной речной глади.
В ритме с движениями звезды меняли цвет и блеск, пульсировали. Точнее, это Галактика пульсировала-играла частями своего громадного тела, только и видимого наблюдателям благодаря вкраплениям звезд, — изменения в них, как и движения их, распространялись ветровой рябью по темной воде пространства. Большинство звезд меняли яркость и цвета умеренно, немногие — беспокойно, резко; время от времени ликующими аккордами световой симфонии взрывались в рукавах Галактики новые и сверхновые звезды.
Александр Иванович не удержался, включил звуковой преобразователь Бурова. Слышимое из динамиков гармонично дополняло видимое над куполом и на экранах: ближние звезды вели — каждая свою — скрипичные мелодии с переливами, мириады далеких создавали — комариными дольками писка — аккомпанемент; был в звуках MB и смущающий душу ропот пространства, и отдаленное аханье, и перекаты, контрабасовый рокот, шорох, гул… Не просто музыка, не оркестр из миллиардов инструментов — проявляла себя звуками другая сторона Вселенского жизнедействия.
И соединение пространственного образа звездного вихря со сложно-ритмичной картиной изменений в нем, видимой и слышимой, давало впечатление простой, ясной и величественной Цельности. Не мертвый поток нес и создавал в турбулентном кипении Галактики вихри и струи: было во всех струях, всплесках и колыханиях MB нечто превосходящее любые течения и волны мертвой субстанции, что-то подчеркнуто резвое, стремящееся выразить себя — живое. Эти потоки могли течь и в гору, эти вихри сами могли вовлекать, закручивать в себе окрестную среду.
Да и то сказать: если материя не жизнь, значит она — мертвечина. Середины нет.
Они смотрели, слушали, чувствовали и думали — каждый свое.
«Мне повезло, — думал Любарский, — мне необыкновенно, свински, фантастически повезло. Я не фанатик науки, не жрец и не герой — ученый средней руки. Если кто-то, к примеру, попрет на меня с проработочной рогатиной: дескать, твоя теория вселенской турбуленции вредный вздор, а истинно то, что академики вещают, — я отступлюсь. Ради бога, вещайте… Но вот для того, чтобы не лишиться этих наблюдений, чтоб увидеть, как в пространство, будто луна из-за забора, выплывает новая Галактика, закручивает в спиральный хоровод рождающиеся в ней звезды, а они накаляются, пульсируют, меняют „вечные“ рисунки созвездий, — ради этого я дам отрубить себе руку. Потому что это не просто наука — гораздо большее. Это Истина — не записанная и не сказанная, существующая вечно и просто: возникновением, жизнью и распадом миров. Это то первичное Знание, ради достижения которого возникают цивилизации и живут, сами того не сознавая, люди».
«Я много знаю о материи, о мирах, — думал Пец, чувствуя сразу величие и ничтожество, покой и смятение, торжественность и восторг, — по этой части я, пожалуй, один из наиболее информированных людей на Земле. Но — насколько мало это выраженное в словах и уравнениях, снимках и графиках, воплощенное в статьи, монографии, учебники, энциклопедии комариное знаньице перед прямым видением Жизни Вселенной! И — я не смят, не подавлен. Вот когда впервые понял, что находится в Шаре, был подавлен и унижен, — а сейчас ничего. Потому что мы — достигли: поняли и сделали, пришли сюда. Понять и посредством этого сделать — это и есть разумная жизнь. Теперь величие Меняющейся Вселенной — и наше величие.
…Эта истина жестока, как смерть. Потому что подобно смерти она может отнять у человека все иллюзии, а тем и привязанность к миру. Эта истина сильна, как жизнь. Потому что она и есть Жизнь — часть от части которой наша,
И нам теперь надо… просто необходимо! — уметь встать над жизнью и над смертью».
«Пи-у, пи-у!.. — думал Корнев, слушая звучание звезд в динамиках. — Какой простор! Какой необыкновенный простор!..»
Он между тем все увеличивал нижнее поле, приближая время, текущее в кабине, ко времени Галактики. Совсем замедлились собственные движения звезд, сникла голубая составляющая в их блеске, но сами они оставались далекими точками.
— Сколько еще в запасе? — спросил Пец.
— По четверти миллиона вольт на нижних каскадах, чуть поменьше на верхних, — Корнев взглянул на него и астрофизика. — Попробуем? Есть что-нибудь обнадеживающее, доцент?
Речь шла о втором пункте программы: попытаться приблизиться к какой-нибудь звезде до различения ее диска в телескоп.
— М-м… сейчас-сейчас… — Астрофизик приник к окуляру, отсчитывал деления. — Вот эта наискось идет к нам, но… ей еще надо двигаться к нашему, извините за выражение, «перикабинию» тысяч двенадцать лет. В пересчете на наш уровень поменьше, с тысячу.
— Тоже многовато, — сказал директор.
— Теперь для нас это не проблема, — кинул Александр Иванович. — Отступим на семь порядков во времени, через минуту вернемся.
— Только не промахнитесь, упустим, — сказал Любарский.
Повороты ручек на пульте — и звездное небо свернулось в Галактику, она удалилась, играя струйками звезд-штрихов в себе, меняясь в очертаниях. Рукава вихря приближались к ядру, вытягивались вокруг него все более полого, касательно — и вот замкнулись в эллипс. Через две минуты Корнев тронул реостаты: Галактика надвинулась, замедлила вращение, разделилась на звезды и темноту.
— Вот! — торжествующе сказал Варфоломей Дормидонтович. — Первая после Солнца!
В защищенном фильтрами окуляре телескопа он видел белый шарик. Шарик вращался, края его слегка колебались; по диску проходила рябь глобул. На левом краю возник огненный гейзер-протуберанец.
— Эх… нестабильно все-таки, нечетко, — жадно сказал астрофизик.
Валерьян Вениаминович смотрел на экраны, где плясала сине-белая горошина, без подробностей, потом взглянул вверх. Над куполом сияла, подавляя своим светом все окрестное, голубая звезда. «Как Венера после заката», — подумал он.
Это была первая после Солнца звезда, чей диск увидели люди.
— Есть запас в сотню киловольт, — сказал Корнев. — Придвинемся еще?